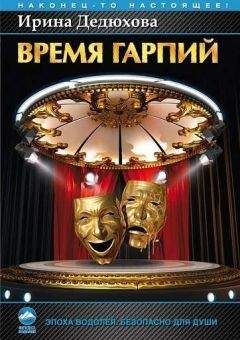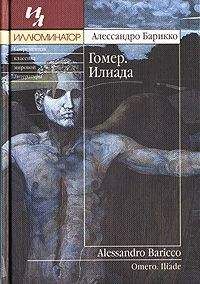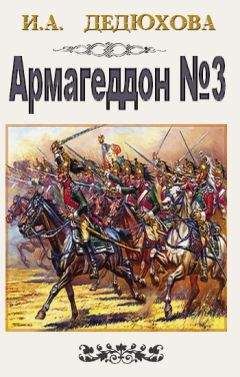Он понимал, конечно, что Никифорова в театре человек неслучайный, взяли ее не за талант или профессионализм. Но никогда раньше не замечал ее тяжелой поступи, от которой трещал дешевый ламинат на полу его каморки. Руки у нее были плотно прижаты к туловищу, а голова неестественно вывернута так, будто она хищно высматривала что-то у ног не на шутку перепуганной Эрато.
— Девочки, вы что это? — беспомощно развел он руками. — Девочки, давайте мирно обсудим наши проблемы…
— Заткниссь! — прошипела пресс-секретарь, пытаясь боком подобраться к скулившей на одной противной ноте журналистке. — Дойдет и до тебя очередь, заткнисссь!
— Вот пусть сейчас лучше до меня очередь дойдет, — решительно ответил Николай, — а сейчас мы будем с прессой вести себя по-балетному! Не забывайте, что вы пресс-секретарь, а не…
Тут он бросил взгляд в зеркало, к которому прижималась Эрато, сбросив коробку с артистическим гримом на пол. За ее спиной, в зеркальном отражении он увидел смутные очертания Никифоровой, но именно такой, какой она всегда ему казалась, когда откровенно гадила в печати, перевирая восторженные отклики в английской и французской прессе.
— Коля, спаси меня! Пожалуйста, спаси от этой гадины! — всхлипывая, повернулась к нему Эрато, заламывая руки.
Он подскочил к Никифоровой, совершенно потерявшей к нему всякий интерес, полностью сосредоточенной на замшевых ботильонах Эрато, схватил ее под руки, плотно прижатые к туловищу, и, удивляясь про себя ее почти немыслимой тяжести для довольно тщедушного тельца, сумел выкинуть ее в коридор, всем телом прижав дверь, плотно запирая ее на ключ.
— Что это было? — переводя дыхание, спросил он Эрато, слезавшую с туалетного столика.
— То, что ты сам видел, — прошептала она. — Надо своим глазам верить, а не сложившимся общественным представлениям… как где-то писала Каллиопа. Как ты думаешь, эта тварь за мной кинется?
— Не знаю, я же впервые такое вижу! — растеряно признался он. — А что ты про какой-то час Либитины говорила?
— Если ты немедленно не дашь мне что-то выпить, ничего не скажу! — твердо сказала Эрато, чувствуя себя совершенно обессиленной.
— Ну, где-то тут мне поклонники приносили, — неуверенно сказал Николай, заглядывая в тумбочку, понимая, что без тонизирующего ему придется тащить ее из театра на себе. — Вот! Нашел! Мне после «Щелкунчика» дарили… Там же Новый год и мое день рождения… дарят, а я такое не пью.
Он выставил на туалетный столик изящный флакон коньяка, соображая, где же у него могут быть рюмочки или стаканчики. Но пока он рылся в своем шкафу, Эрато, свинтив хрустальную пробку флакона, жадно припала к нему ярко накрашенным ртом.
— Ну, ты даешь! — зачарованно протянул он, впервые видя, как коньяк пьют прямо из горлышка. — Не знал, что девочки такое могут!
— Блин, еще насмотришься на всех девочек, что и не такое узнаешь! — заплетающимся языком пролепетала Эрато. — Кажись, отпустило… Ну, ты, наверно, знаешь, что Холодец — психопомп, то бишь проводник душ? И меня всегда поражало, что можно о себе всю историю исказить, а до конца подчистить еще никому не удавалось… Все в его истории шито белыми нитками, все торчит на поверхности! Нет, ты слушай, слушай! Ты думаешь, что останешься в стороне, да? А он сам к тебе придет! Поэтому тебе лучше сесть и меня послушать…
Быстро захмелевшая Эрато начала рассказывать ему про Холодца так, будто это был хорошо знакомый ей тип, обладавший огромной властью. Николай постоянно сталкивался с такими заносчивыми господами, смотревшими на всех свысока. Немеряные деньги настолько вскружили им головы, что они чувствовали себя небожителями, в чьей власти было повернуть время вспять.
— Гермес притворяется самым молодым богом среди олимпийцев, — продолжила Эрато, сделав еще один глоток, чувствуя, как наконец-то согревается изнутри. — Он очень древний, древнее Зевса или Юпитера, которому подсунули «сыночка»…
Не понимая, как это может решить его проблемы в театре, Николай с интересом слушал ее рассказ о древнегреческом боге, который, оказывается, не только не превратился в стильный фетиш банков и бирж, но может вполне явиться к нему за какойто надобностью.
Само его имя было, как производное от греческого слова ἕρμα, герма, и означало вообще-то груду камней или каменный столб, которыми отмечались в древности места погребений. Гермы были путевыми знаками и одновременно своеобразными амулетами, охранителями дорог, границ, ворот. Отсюда пошло одно из прозвищ Гермеса — «Пропилей», то есть «привратный». А повреждение герм считалось страшным святотатством. Герма делила наш мир и потусторонний, никто их и так не трогал, поскольку каждая герма считалась порталом в мир иной. А уже потом, как бы сам по себе, возникает образ Гермеса Трисмегиста, то есть «трижды величайшего», и с этим Гермесом связываются все оккультные науки и тайные, доступные только посвящённым знания.
Гермес почитался на анфестериях — празднике пробуждения весны и памяти умерших. Это стало потом в христианстве «Троицей мертвых». В средние века в алхимии существовала теория о Птицах Гермеса (аллегорическом образе ртути), которая может породить новую субстанцию — философский камень, превращающий все в золото, меняющий природу вещей.
— И поскольку мне сейчас совершенно без разницы, я могу сказать открытым текстом, что многие будто и получили такой камень от гермесовых птичек, — икнув, заявила Эрато. — Многие вдруг получают столько благ, будто в руках у них — философский камень… Но всем придется платить за такие чудеса! Всем… но так не хочется, Коля!
Она достала из сумки распечатку с древним ритуальным заклинанием к Гермесу алхимиков.
— Там вначале на английском, а внизу — русский перевод, — пояснила она, тыча в листок пальчиком с безупречным маникюром. — Это, чтобы ты знал. Лучше знать, с кем дело имеешь!
In the sea without lees
Standeth the bird of Hermes
Eating his wings variable
And maketh himself yet full stable
When all his feathers be from him gone
He standeth still here as a stone
Here is now both white and red
And all so the stone to quicken the dead
All and some without fable
Both hard and soft and malleable
Understand now well and right
And thank you God of this sight
Между моря без границы,
Стоит как столп Гермеса птица
Свои крылья пожирая
И себя тем укрепляя
И как только перья канут
Она недвижным камнем станет
Здесь сейчас бел он и красен
И всеми цветами — смертью окрашен
Всем и частью без подколки
Твердый, мягкий он и ковкий
Ты все правильно пойми
И Бога возблагодари
— И там внизу — поговорки про птичек Гермеса, их тоже надо понять. Многие сочиняют про каких-то фениксов, а у древних греков фениксов не было! — залилась Эрато пьяным голосом.
— Слушай, ты так пьешь, а ты на машине? — вдруг дошел до Николая весь ужас положения. — Как ты домой-то пойдешь? «В греческом зале, в греческом зале…»
— Не твое дело! — гаркнула Эрато. — Ты о себе подумай! Не все же думать о балете и реконструкции… какие вы все скучные, ей богу… прочти поговорки! Думаешь, это про фениксов или журавлей?
Николай прочел две строчки после стишка.
Птицей Гермеса меня называют, свои крылья пожирая, сам я себя укрощаю.
Птица Гермеса имя мне дали, лишив меня крыльев, свободу отняли.
— Это уже из черной магии, — мрачно заметила Эрато. — Это когда кто-то или что-то уже умерло, но уходить не хочет, но готово стать «птицей Гермеса», готово ради этого пожертвовать и свободой.
— А сама-то ты чего такое не сделаешь? Сразу бояться не будешь, — попытался рассуждать разумно Николай.
— А потому что я знаю про Либитину, — ответила Эрато.
Либитина тоже была очень древним италийским божеством прихоти и эротических удовольствий, вместе с тем являясь богиней садов и виноградников. Сама муза любовной лирики Эрато была отражением этой богини в искусстве.
Либитина олицетворяла краткую весну каждой жизни — молодость. Смерть наступала слишком внезапно, люди раньше редко жили долго, потому и возникла поговорка «мертвые остаются молодыми». Культ Афродиты Урании и Афродиты Пандемос (Афродиты Небесной и Афродиты Всенародной) — переродился в культ Венеры, олицетворявшей любовь земную и небесную. А Либитина стала третьей ипостасью с Венеры, получившей прозвища Lubentina, Lubia.
Все, что родилось, должно в свой срок отцвести и уступить в свой срок дорогу новой жизни. Венера Lubentina олицетворяла краткость, недолговечность любви, отражавшей ее мимолетность перед вечной разлукой. В храмах Венеры Либитины хранились похоронные принадлежности, и по постановлению Сервия Туллия за каждого умершего уплачивалась в него известная монета (lucar Libitinae). Поэты употребляли имя Либитины в значении смерти, разлучающей любящие сердца.