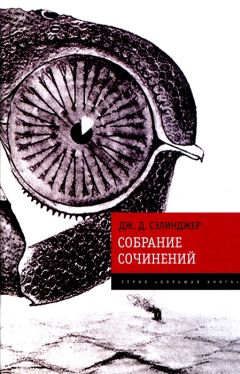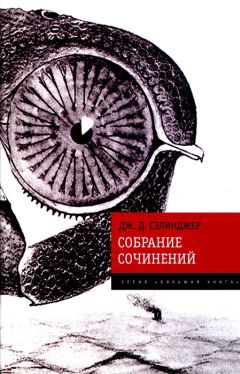Теперь, мне кажется, не будет слишком уж панибратски упомянуть, что о своем брате я уже писал. Коли уж на то пошло, после краткого добродушного подтрунивания я, вероятно, могу признать, что редко не писал о нем, а если — предположительно, под дулом пистолета — мне пришлось бы завтра сесть и написать рассказ о динозавре, не сомневаюсь, что я нечаянно придал бы этому громиле одну-другую черточку, напоминающую о Симоре: скажем, особенно умилительный прикус, когда он отгрызает верхушку тсуги, или как он виляет тридцатифутовым хвостом. Кое-кто — не близкие друзья — спрашивал меня, не много ли позаимствовал у Симора молодой главный герой того единственного романа, который я опубликовал. Вообще-то большинство не спрашивали — они мне об этом сообщали. Малейшее по этому поводу возмущение, как выяснилось, вызывает у меня крапивницу, но скажу: знавшие моего брата не спрашивали и не говорили мне ничего подобного — я благодарен и в некоем смысле несколько даже ошеломлен, поскольку добрая часть моих персонажей говорит по-манхэттенски бегло и красочно, обладает довольно распространенным талантом с головой кидаться туда, куда не решатся сделать шаг даже отъявленные дураки,[306] и преследует их, в общем и целом, Сущность, которую я бы сильно предпочел вывести — крайне грубо — под именем Горного Старца.[307] Однако я могу и должен заявить: я написал и опубликовал два рассказа, по задумке — о самом Симоре. Более поздний напечатали в 1955 году — он содержит весьма всеобъемлющий отчет о дне его свадьбы в 1942 году. Подробности там поданы с наивозможнейшей полнотой, разве что читателю не преподносятся отлитые в шербете следы ног всех до единого свадебных гостей, которые можно унести домой на память, однако сам Симор — главное блюдо — физически нигде не является. С другой стороны, в том рассказе, что был пораньше и покороче, написанном еще в конце сороковых, Симор не только являлся во плоти, но и ходил, говорил, купался в океане, а в последнем абзаце вышиб себе мозги. Однако же несколько ближайших, хоть и несколько разбросанных по миру родственников, которые регулярно ковыряются в моей опубликованной прозе на предмет мелких технических ошибок, мягко указали мне (слишком уж, черт бы их взял, мягко — обычно они набрасываются на меня сворой грамматистов), что молодой человек, тот «Симор», который ходил и говорил в моем раннем рассказе, не говоря уже о стрельбе, — вовсе не Симор, но, на странный манер, некто, поразительно похожий на — алле-оп, боюсь, — меня самого. Что, кажется мне, правда или достаточно правда — настолько, что у виска мне слышится ремесленнический свист упрека. И хотя подобному faux pas[308] не может быть приличного оправдания, не могу удержаться и не упомянуть: рассказ этот был написан лишь пару месяцев спустя после смерти Симора и вскоре после того, как я сам, подобно «Симору» в рассказе и Симору в Реальной Жизни, вернулся с европейского ТВД. У меня в то время была плохо реабилитировавшаяся, не говоря — неуравновешенная — немецкая пишущая машинка.
О, а это счастье — штука крепкая. Изумительно освобождает. Я волен, сдается мне, рассказать вам как раз то, что вам, должно быть, не терпится услышать. Иными словами, если, насколько мне известно, больше всего на свете вы любите этих тварей чистого духа с нормальной температурой в 125°, из этого естественно вытекает, что вы дальше возлюбите личность — боголюба или богоненавистника (вряд ли нечто промежуточное), святого или распутника, моралиста или полнейшего развратника, — способную написать стих, который будет поэзией. Среди людей она — краснозобик, и поспешу сообщить вам то немногое, что мне предположительно известно о ее перелетах, ее жаре, ее невозможном сердечке.
С начала 1948 года я не слезаю — родственники мои полагают, буквально — с блокнота на пружинке, где обитают сто восемьдесят четыре коротких стихотворения, которые мой брат написал в последние три года жизни, как в армии, так и вне ее, но главным образом — в ней, глубоко в ней. Вскорости — всего через несколько дней или недель, твержу я себе, — я намерен отступить где-то от ста пятидесяти из них и позволить первому же падкому издателю, обладающему отглаженной визиткой и относительной незамурзанными серыми перчатками, унести их прямо к сомнительным прессам, где их, вероятнее всего, заключат в двуцветную суперобложку с непременным задним клапаном, несущим на себе несколько причудливо убийственных одобрительных замечаний, выпрошенных и полученных от «именитых» поэтов и писателей, кои не терзаются раскаяньем за то, что публично несут ахинею о работах своих собратьев по искусству (по привычке они приберегают самые выровненнодушные свои похвалы для друзей, подозреваемых подчиненных, иностранцев, залетных диковин и пахарей на иных нивах), затем — к литературным разделам воскресных газет, где, если останется место, если не слишком затянется критика обширной, новой, всеобъемлющей биографии Гровера Кливленда,[309] стихи эти будут сжато представлены любителям поэзии кем-нибудь из компашки завсегдатаев, педантов на умеренном жалованье и сторонних подработчиков, которым можно доверять рецензии новых поэтических книг, если таковые не обязательно будут мудрыми или страстными, а вот сжатыми — непременно. (Вряд ли в дальнейшем я снова стану брать эту кислую ноту. Но если возьму, постараюсь равно этого не скрывать.) Итак, если принять во внимание, что я не слезаю с этих стихов уже десять с лишним лет, было бы, наверное, неплохо — во всяком случае, освежающе нормально или неизвращенно — сообщить две главные, по-моему, причины, почему я решил встать, слезть с них. И я предпочел бы упаковать обе в один абзац, как в вещмешок, отчасти потому, что мне бы хотелось держать их поближе друг к другу, а отчасти потому, что у меня имеется импульсивное, вероятно, представление, что в пути они мне больше не пригодятся.
Во-первых, дело в давлении родственников. Бесспорно, штука весьма обычная — обычная до звона в ушах, — но у меня четверо живых, образованных, довольно невоздержанно красноречивых младших братьев и сестер полуеврейского, полуирландского и, предположительно, полуминотаврового происхождения: два мальчика — один, Уэйкер, некогда бродячий картезианский монах-журналист, ныне в заточении, и другой, Зуи, не менее живо призванный и избранный актер вне определенного вероисповедания, коим соответственно тридцать шесть и двадцать девять лет; и две девочки, одна — начинающая юная актриса Фрэнни, другая — Тяпа, живая платежеспособная мать семейства из Вестчестера, коим соответственно двадцать пять и тридцать восемь. С 1949 года, из семинарии и школы-интерната, с родильного этажа Женской больницы и из салона для занятий обменных студентов ниже ватерлинии «Королевы Елизаветы»,[310] между, так сказать, экзаменами и генеральными репетициями, утренниками и кормежками в два все эти четверо сановников посредством почты время от времени доводят до моего сведения череду неконкретных, но отчетливо зловещих ультимативных угроз касаемо того, что произойдет со мной, если я не сделаю чего-нибудь — и поскорее — со Стихами Симора. Следует отметить, быть может — сию же минуту: кроме того, что я — человек пишущий, я еще на полставки преподаю филологию в женском колледже на севере штата Нью — Йорк, неподалеку от границы с Канадой. Живу я один (но без кошки, что мне хотелось бы довести до всеобщего сведения) в совершенно скромной, не сказать — раболепной маленькой хижине, упрятанной в глубине лесов и на более недоступном склоне горы. Не считая студенток, коллег по учительской и стареющих официанток, всю рабочую неделю — или год — я мало с кем вижусь. Короче говоря, принадлежу к биологическому виду анахоретов от литературы, которых, мне сильно сдается, успешно можно принуждать или шантажировать посредством почты. У всех, в любом случае, имеется своя точка насыщения, и я уже не могу открывать почтовый ящик без лишнего трепета, рассуждая найти там среди рекламы сельхозтехники и банковских балансов вербозную устрашающую открытку от кого-либо из братьев или сестер, причем двое, как, причудливо представляется мне, стоит отметить, пишут шариковыми ручками. Вторая главная причина того, что я решил отпустить от себя эти стихи, опубликовать их, — отчасти менее эмоциональна, нежели физическа. (И заводит она, как я павлинье горд похвастаться, прямо в трясины риторики.) Воздействие радиоактивных частиц на человеческую плоть, столь животрепещущее в 1959 году, — не новость для старых любителей поэзии. Если пользоваться им умеренно, первоклассное стихотворение — прекрасная и обычно быстродействующая разновидность жаротерапии. Однажды в армии, когда я месяца на три с лишним свалился с — по техническому определению — амбулаторным плевритом, первое подлинное облегчение у меня наступило, когда я поместил совершенно невинное на вид стихотворение Блейка в нагрудный карман рубашки и где-то день проносил его там, как припарку. Крайности, вместе с тем, всегда рискованны и обычно, скажем прямо, пагубны, а опасность длительного контакта с любой поэзией, очевидно превосходящей то, что мы уютно полагаем первоклассным, значительна. В любом случае, мне бы полегчало, если б стихи моего брата были удалены из этой в общем смысле точки приложения — по крайней мере, на некоторое время. Меня мягко, однако всесторонне жжет. И, похоже, по уважительнейшей причине: большую часть ранней юности и всю взрослую жизнь Симора влекло сначала к китайской поэзии, затем столь же глубоко к японской, и к обеим так, как не влекло ни к какой другой поэзии на свете.[311] У меня под рукою нет, разумеется, сведений о том, насколько знаком или незнаком мой дорогой, хоть и несколько затравленный широкий читатель с китайской или японской поэзией. Учитывая, вместе с тем, что даже краткое исследование вопроса способно, вероятно, пролить немало света на природу моего брата, не думаю, что сейчас мне самое время быть немногословным и сдержанным. В своем самом действенном виде, я полагаю, китайские и японские классические стихи — вразумительные высказывания, которые удовлетворяют, просвещают или укрепляют приглашенного подслушивателя так, что мало не покажется. Они могут быть прекрасны, в частности, на слух — и таковы и есть, — но по большей части я бы сказал, что если подлинная сильная сторона китайского или японского поэта не есть способность отличить на вид хорошую хурму, хорошего краба или хороший комариный укус на хорошей руке, сколь бы ни были длинны, необычны или чарующи его семантические либо интеллектуальные кишки, сколь маняще ни звучали бы они, если их натянуть и дернуть, никто на Таинственном Востоке не сочтет его поэтом всерьез — или даже не всерьез. Мое внутреннее беспрестанное ликование, которое, мне кажется, я справедливо, хоть и неоднократно, называл счастьем, грозит — я хорошо сие сознаю — превратить все это сочинение в шутовской монолог. Однако я думаю, что даже мне не достанет борзости попытаться определить, что именно придает китайскому или японскому поэту ту радость, которую он несет. Нечто, вместе с тем (представляете?), на ум все же приходит. (Маловероятно, что именно этого я ищу, но его и не выкинешь.) Однажды, кошмарно давно, когда нам с Симором было восемь и шесть лет, родители устроили вечеринку для почти шестидесяти гостей в наших трех с половиной комнатах в старом отеле «Аламак»[312] в Нью-Йорке. Они официально уходили из варьете, потому случай был не только праздничный, но и волнующий. Нам двоим позволено было встать около одиннадцати и поприсутствовать. Мы не только поприсутствовали. По заказу и без всяких возражений с нашей стороны мы танцевали, мы пели — сначала поодиночке, затем вместе, — как часто и происходит с детьми нашего чина. Но по большей части мы просто не ложились спать и наблюдали. Ближе к двум часам ночи, когда гости начали разъезжаться, Симор умолил Бесси — нашу мать — позволить ему приносить уходящим пальто, которые висели, болтались, валялись и громоздились по всей нашей квартирке, даже в ногах нашей спящей младшей сестренки. Около дюжины гостей мы с Симором знали лично, еще с десяток — в лицо или понаслышке, а прочих не знали вообще или были едва знакомы. Когда все только съезжались, следует добавить, мы с ним лежали в постелях. Но понаблюдав за гостями часа три или около того, поухмылявшись им, по-, я бы сказал, — любив их, Симор — не задавая вопросов — почти всем принес их пальто, по одному-два за раз, причем безошибочно — их собственные, а всем мужчинам в придачу — еще и шляпы. (С женскими шляпками ему пришлось труднее.) Поймите, я не обязательно предполагаю, что подобная ловкость типична для китайского или японского поэта, и совершенно точно не хочу сказать, будто от нее Симор стал тем, чем стал. Но я убежден, что если китайский или японский стихоплет не знает по виду, где чье пальто, у его поэзии примечательно мало шансов когда-либо созреть. И восемь лет, я бы решил, — почти предельный возраст, когда такой неприметной ловкостью можно овладеть.