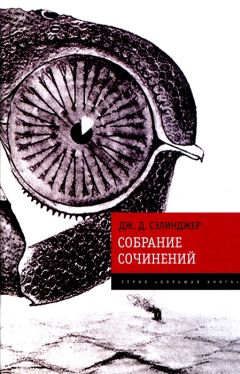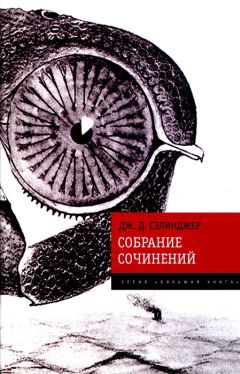Неофициально Симор писал китайскую и японскую поэзию и говорил ею весь тридцать один год, что оставался с нами, но я бы сказал, что формально сочинять ее он начал однажды утром в одиннадцать лет, в читальном зале на первом этаже публичной библиотеки на верхнем Бродвее, возле нашего дома. Суббота, в школу не надо, впереди у нас — ничего насущнее обеда, и мы прекрасно проводили время, лениво плавая либо гуляя вброд между стеллажами, время от времени всерьез закидывая удочку на каких-нибудь новых авторов, и тут он вдруг поманил меня посмотреть, что у него есть. Он поймал целую мешанину переведенных стихов Пана, этого чуда одиннадцатого века. Однако рыбачить, как нам было известно, в библиотеках или еще где-нибудь — занятие хитрое, никогда не поймешь, кто кого поймал. (Опасности ловли сами по себе у Симора были излюбленной темой. Наш младший брат Уолт в раннем детстве был великолепным ловцом на гнутую булавку, и на девятый или десятый день рождения в подарок от Симора получил стихотворение — одну из главных радостей его жизни, я полагаю, — о богатом мальчике, который вываживает и ловит в реке Гудзон спота: у мальчика начинает сильно болеть нижняя губа, затем он начисто про это забывает и только дома, когда еще живую рыбу выпускают поплавать в ванну, обнаруживает, что на рыбе этой — синяя саржевая кепочка с эмблемой его собственной школы; внутри крохотного и мокрого головного убора он находит ленточку с собственным именем.) С того самого утра Симор так и не слез с крючка. К его четырнадцати годам кое-кто в нашей семье сравнительно регулярно обшаривал карманы его пиджаков и курток в поисках какой-нибудь радости, которую Симор мог набросать на вялом уроке физкультуры или при долгом ожидании в приемной стоматолога. (С этой последней фразы минул день, и в промежутке я совершил междугородний телефонный звонок из Конторы сестре Тяпе в Такахо, дабы спросить, не осталось ли у нее какого-нибудь стихотворения из раннего детства Симора, которое ей бы хотелось вставить в этот мой отчет. Она ответила, что перезвонит. Выбор ее не вполне отвечает моим желаньям, а стало быть, чуточку меня раздражает, но, думаю, это я переживу. То, что она выбрала, насколько мне известно — так уж вышло, — написано было, когда поэту исполнилось восемь лет: «Джон Китс / Джон Китс / Джон / Надень, пожалста, свой кепон».) В двадцать два у него была одна особая, отнюдь не худенькая стопка стихов, которые казались мне очень, очень хорошими, и я, кто никогда в жизни не писал от руки так, чтобы сразу не представить, как все написанное набрано одиннадцатым типографским кеглем, весьма досадливо понуждал его отдать их куда-нибудь для публикации. Нет, он не считал это возможным. Пока не стоит; может, и никогда. Они слишком не-западные, слишком лотосовые. Он сказал, что, по его мнению, они слегка оскорбительны. Он пока толком не решил, что в них оскорбительного, но иногда у него возникает чувство, будто стихи эти читаются так, словно их написал неблагодарный, что ли, кто поворачивается спиной — во всяком случае, по сути — к своей среде и близким. Сказал, что ест из наших больших холодильников, ездит на наших восьмицилиндровых американских машинах, без колебаний принимает наши лекарства, если болеет, и полагается на армию США, которая защитит его родителей и сестер от гитлеровской Германии, и ничто, ни единый штрих во всех его стихотворениях этих реалий не отображает. Что-то здесь не так, просто ужас. Сказал, что часто, закончив стихотворение, думает о мисс Овермэн. Следует заметить, что мисс Овермэн работала библиотекарем в том первом отделении публички в Нью-Йорке, куда мы регулярно ходили детьми. Симор сказал, что мисс Овермэн он обязан тщательным и упорным поиском той формы поэзии, что согласовывалась бы с его личными причудливыми требованиями, однако была бы не вполне несовместима, даже на первый взгляд, со вкусами самой мисс Овермэн. Когда он договорил, я спокойно, терпеливо — то есть, разумеется, во всю глотку — указав ему на очевидные мне дефекты мисс Овермэн как ценителя или даже просто читателя поэзии. После чего он мне напомнил, что в его первый день в публичке (в одиночестве, в шесть лет) мисс Овермэн, сколь бы ущербна как ценитель поэзии ни была, раскрыла книгу на вклейке с катапультой Леонардо и бодро положила перед ним, и он не испытает радости, если допишет стихотворение и будет знать, что мисс Овермэн обратится к его опусу неохотно, без удовольствия либо должной увлеченности, перейдя, как с нею наверняка случится, к опусу этому прямиком от ее возлюбленного мистера Браунинга или в равной же степени дорогого ее сердцу и не менее ясного мистера Вордсворта.[315] Спор — для меня спор, для него дискуссия — на этом и завершился. Невозможно спорить с тем, кто свято верит либо же страстно подозревает, будто функция поэта — писать не то, что должен, а скорее такое, что написал бы, если б сама жизнь его зависела от того, какую ответственность он примет за написанное должным образом, тем стилем, что призван оттолкнуть как можно меньше его престарелых библиотекарей.
У верных же, у терпеливых, у герметически чистых все важное на свете — не жизнь и смерть, быть может, которые суть просто слова, но поистине важное — получается довольно неплохо. Перед концом своим Симор три с лишним года получал, наверное, глубочайшее удовлетворение, кое дозволено опытному ремесленнику. Он нашел единственно подходящую ему форму стихосложения, которая отвечала его самым суровым требованиям к поэзии вообще и читать которую, пожалуй, сама мисс Овермэн, будь она жива до сей поры, весьма вероятно, не только сочла бы поразительным и даже, быть может, привлекательным, но и которой она запросто могла бы «увлечься», если бы уделила ей столь же неумеренное внимание, как и своим обожаемым Браунингу и Вордсворту. Найденное им, оказавшееся для него плодотворным описать очень трудно.[316] Для начала, может, полезно будет сказать, что Симор любил классические трехстрочные, семнадцатисложные хайку, как не любил, наверное, ни одну другую форму поэзии, и сам он писал — кровью — хайку (почти всегда на английском, но иногда — я надеюсь, видно мое должное нежелание это признать — по-японски, по-немецки или по-итальянски). Можно сказать и, вероятно, сказано будет, что Симоровы стихи позднего периода по сути своей похожи на английские переводы неких двойных хайку, если такие существовали; не думаю, что это сойдет за дурной каламбур, но меня подташнивает от сильной вероятности того, что какой-нибудь усталый, но неутомимо озорной преподаватель филологии в 1970 году — не исключено, господи помоги, что и я сам, — удачно сострит, утверждая, что стихотворение Симора в сравнении с хайку — все равно, что двойной мартини в сравнении с обычным. И то обстоятельство, что сие неправда, не обязательно остановит педанта, если он почувствует, что класс перед ним должным образом разогрет и готов. Как бы там ни было, пока я еще способен, изложу довольно медленно и тщательно: типичное позднее стихотворение Симора — шестистрочный стих, без определенного размера, но обычно скорее ямб, чем нет, которое он, отчасти из любви к покойным японским мастерам, отчасти из собственной природной поэтической склонности к работе в привлекательных жестких рамках, намеренно ограничивал тридцатью четырьмя слогами — что вдвое больше, нежели в классическом хайку. В остальном же ни в одном из ста восьмидесяти четырех стихотворений, проживающих ныне под моей крышей, ничто не похоже ни на что — исключительно на самого Симора. Даже акустика у них особенна, как сам Симор. Иными словами, каждое стихотворение так же незвучно, так же спокойно, как стихотворению и подобает, по Симорову убежденью, но периодически в них кратко взрывается эвфония (за отсутствием менее зверского определения), что на меня лично действует так, словно кто-то — наверняка не вполне трезвый — открывает дверь, вдувает мне в комнату три, четыре или пять бесспорно приятных и умелых нот на корнете, затем исчезает. (Я прежде не знал поэтов, от которых бы создавалось впечатление, будто посреди стихотворения они играют на корнете, да еще прекрасно играют, и уж лучше я почти ничего об этом говорить не стану. Совсем ничего, ага?) В этой шестистрочной структуре и крайне причудливой гармонии Симор со стихотворением делает, я думаю, то, что ему и суждено было с ним сделать. Подавляющее большинство этих ста восьмидесяти четырех стихотворений — неизмеримо не то что беззаботны, но безбоязненны, их может читать любой где угодно, даже вслух в довольно прогрессивных сиротских приютах ненастными ночами, но я бы не стал безоговорочно рекомендовать последние тридцать, тридцать пять стихотворений ни единой живой душе, которая за свою жизнь не умирала как минимум дважды и желательно — медленно. У меня любимые — если они вообще есть, а они, уверяю вас, у меня имеются, — два последних стихотворения в сборнике. Вряд ли я наступлю кому-либо на ногу, если просто скажу, о чем они. Предпоследнее — о молодой замужней женщине и матери, которая крутит то, что в моем старом справочнике семейной жизни называется адюльтером. Симор не описывает ее, но в стихотворение она входит как раз в тот миг, когда этот Симоров корнет производит нечто крайне действенное, и я вижу ее — ужасно симпатичная девушка, умеренно разумная, неумеренно несчастная, вполне вероятно, живет в квартале-другом от художественного музея «Метрополитен». Однажды очень поздно вечером она возвращается домой со свиданки — у меня в уме она утомлена, и помада у нее размазалась — и находит на покрывале своей кровати воздушный шарик. Кто-то его там взял и оставил. Поэт не говорит, но шарик этот может оказаться здоровенным и детским таким, вероятно — зеленым, как Центральный парк весной. Второе стихотворение — последнее в сборнике — о молодом пригородном вдовце, который как-то вечером сидит у себя на клочке лужайки, вроде бы в пижаме и халате, и смотрит на полную луну. Скучающая белая кошка, явно из его домочадцев, почти наверняка — некогда главная из его домочадцев, подходит и опрокидывается перед ним, подставляя пузо, и он дает ей погрызть себя за левую руку, а сам смотрит на луну. Вообще это последнее стихотворение запросто могло бы дополнительно заинтересовать моего широкого читателя по двум вполне особым поводам. Мне бы очень хотелось на них тут остановиться.