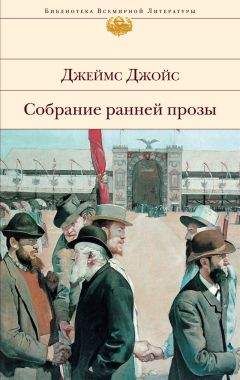Наконец-то. В сумраке и тишине он стал на колени и поднял глаза на белое распятие, висевшее перед ним. Господь ведь видит, что он раскаивается. Он поведает все грехи свои. Исповедь будет долгой-долгой. Все, кто в церкви, узнают, какой он грешник. Пусть знают. Такова истина. Но Бог обещал ему прощение, если он скорбит о грехах своих. А он скорбит. Сжав руки, он простер их к белевшей фигуре, он молился глазами, в которых все помутилось, молился всем содрогающимся телом, как потерянный мотал туда-сюда головой, молился стенающими губами.
— Каюсь, каюсь! О, каюсь!
Ставенка стукнула, и сердце в его груди резко подскочило. За решеткой было лицо старого священника, который сидел вполоборота к нему, опершись на руку. Он перекрестился и попросил священника благословить его, ибо он согрешил. Затем, опустив голову, прочел со страхом «Confiteor». На словах самая тяжкая моя вина он остановился, его дыхание иссякло.
— Когда ты исповедовался в последний раз, сын мой?
— Очень давно, отец.
— Месяц назад, сын мой?
— Больше, отец.
— Три месяца, сын мой?
— Больше, отец.
— Шесть месяцев?
— Восемь месяцев, отец.
Итак, он начал. Священник спросил:
— И что ты можешь вспомнить за это время?
Он начал исповедовать свои грехи: пропускал обедни, не читал молитвы, лгал.
— Что-нибудь еще, сын мой?
Грехи гнева, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.
— Что-нибудь еще, сын мой?
— Лень.
— Что-нибудь еще, сын мой?
Выхода нет. Он прошептал:
— Я… совершал грехи блуда, отец.
Священник не повернул головы.
— С самим собой, сын мой?
— И… с другими.
— С женщинами, сын мой?
— Да, отец.
— С замужними женщинами, сын мой?
Он не знает. Грехи струйкой стекали с его губ, один за другим, постыдными каплями истекали из его души, сочащейся, как язва, гноем и кровью, изливались мерзкой струей порока. Вот выдавились последние — вязкие, грязные. Больше нечего было исповедать. Он поник головой, сломленный.
Священник молчал. Потом спросил:
— Сколько тебе лет, сын мой?
— Шестнадцать, отец.
Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом, опирая лоб на ладонь, наклонился ближе к решетке и, по-прежнему с отведенным взглядом, заговорил медленно. Его голос был старческим и усталым.
— Ты очень молод еще, сын мой, — сказал он, — и я молю тебя оставить сей грех. Этот грех страшен. Он убивает тело и убивает душу. Он — корень множества преступлений и несчастий. Во имя Господа нашего, дитя мое, оставь грех сей. Он унизителен и недостоин мужчины. Ты сам не знаешь, куда эта злосчастная привычка тебя заведет, как она может обратиться против тебя. Покуда ты будешь в этом грехе, бедный сын мой, ты ничего не значишь, не существуешь для глаз Божиих. Моли о помощи нашу святую матерь Марию. Она поможет тебе, сын мой. Едва сей грех начнет одолевать разум твой — молись нашей Всеблагой Деве. Я уверен, что ты будешь так поступать. Покайся во всех этих грехах. Я верю, что ты раскаиваешься. И ныне ты дашь Богу обет, что по Его святой благодати ты никогда больше не прогневишь Его этим мерзким грехом. Ты дашь Богу этот торжественный обет, ты это обещаешь, сын мой?
— Да, отец.
Звуки усталого старческого голоса как отрадный дождь падали на его пересохшее и дрожащее сердце. Как отрадно и как печально!
— Дай обет, сын мой. Дьявол совратил тебя. Гони же его прочь, в ад, когда он станет искушать тебя, чтобы ты бесчестил свое тело этим грехом; он — дух нечистый и ненавидящий Господа. Дай обет Богу, что ты оставишь сей грех, поистине гнусный, гнусный грех.
Ослепленный слезами, ослепленный светом милосердия Божия, он склонил голову, и услышал торжественные слова отпущения грехов, и увидел руку священника, что поднялась над ним в прощающем жесте.
— Господь да благословит тебя, сын мой. Молись за меня.
Он стал на колени в углу темного придела, чтобы прочесть покаянную молитву, и молитва возносилась к небу из его очистившегося сердца как струящееся благоухание белой розы.
Грязные улицы смотрели весело. Он торопился домой, чувствуя, как незримая благодать проникает и наполняет легкостью его тело. Вопреки всему, он совершил это. Он покаялся, и Господь простил его. Его душа стала вновь чистой и святой, святой и радостной.
Прекрасно было бы умереть, если бы такова была воля Господа. И было прекрасно жить, если воля Господа такова, жить в Божией благодати, в мире и добродетели, и с кротостью к ближним.
Он сидел в кухне у очага, от счастья не решаясь заговорить. До этой минуты он не знал, какой прекрасной, какой умиротворенной может быть жизнь. Зеленый лист бумаги, пришпиленный вокруг лампы, отбрасывал вниз мягкую тень. На буфете была тарелка с сосисками и пудингом, на полке яйца. Это все к завтраку после причастия в церкви колледжа. Пудинг, яйца, сосиски, чашка чаю. Как же, оказывается, проста и прекрасна жизнь! И вся жизнь впереди.
Словно во сне, он лег и уснул. Словно во сне, он поднялся и увидел, что вокруг утро. Словно во сне наяву, он шагал тихим утром к колледжу.
Все мальчики уже были в сборе, стоя на коленах каждый на своем месте. Счастливый, смущенный, он присоединился к ним. Весь алтарь был усыпан множеством благоухающих белых цветов — и в утреннем свете бледные огни свечей среди белых цветов были ясны и тихи как его собственная душа.
Он стоял на коленах перед алтарем среди одноклассников и вместе с ними поддерживал руками напрестольную пелену, словно живой подпорой. Руки его дрожали, и душа также дрогнула, когда он услышал, как священник с чашей святых даров переходит от одного причастника к другому.
— Corpus Domini nostri[102].
Так это возможно? Вот он стоит здесь на коленах, безгрешный, робкий — и он почувствует на языке своем гостию, и Бог войдет в очистившееся его тело.
— In vitam eternam. Amen[103].
Иная жизнь! Жизнь благодати, добродетели, счастья! Это было реальностью. Это не сон, от которого он пробудится. Прошлое прошло.
— Corpus Domini nostri.
Чаша со святыми дарами достигла его.
Воскресенье было посвящено тайне Пресвятой Троицы, понедельник — Святому Духу, вторник — Ангелам-Хранителям, среда — Святому Иосифу, четверг — Преблаженному Таинству Алтаря, пятница — Страстям Господним, суббота — Пресвятой Деве Марии.
Каждое утро он заново освящал себя, проникаясь присутствием некоторого святого образа или тайны. Его день начинался самоотверженным отданием каждого помысла и деяния этого дня на волю верховного понтифика и затем — ранней мессой. Колючий утренний воздух подстегивал его рьяное благочестие, и часто, стоя на коленах в полупустом приделе и следуя за бормотаньем священника по своему переложенному закладками молитвеннику, он бросал взгляд на фигуру в облачении, стоящую в полумраке меж двух свечей — то были заветы ветхий и новый — и воображал, что он на богослужении в катакомбах.
Каждый день его жизнь распределялась по определенным сферам благочестия. Пылом духовным и молитвами он щедро накапливал для душ в чистилище целые столетия выкупа, набиравшиеся из дней, сороков и лет. Но духовное торжество, которое он испытывал, с легкостью достигая фантастических сокращений сроков положенных кар, все-таки не давало его молитвенному усердию полного вознаграждения, ибо ему не дано было знать, насколько же именно сократил он своим заступничеством временные мученья страждущих душ — и, страшась, что в пучине огня чистилища, который отличен от адского лишь только одним отсутствием вечности, его покаяние окажется не более действенно, чем капля влаги, он что ни день увлекал душу свою на все ширящиеся круги сверхдолжных трудов.
Каждая часть его дня, разделенного согласно тому, что он теперь рассматривал как свои обязанности на данной духовной стадии, вращалась вокруг определенного центра духовной энергии. Его жизнь будто приблизилась к вечности — каждая мысль, каждое слово, поступок, каждое внутреннее движение могли, лучась, отдаваться на небесах — и временами это ощущение мгновенного резонанса было так живо, что ему казалось, будто каждым подвигом его душа нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как сумма покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а хрупким столбиком благовоний или нежным цветком.
Также и розарии, которые он твердил непрестанно — ибо он теперь носил четки в кармане брюк, чтобы можно было читать их, ходя по улицам, — превращались в гирлянды цветов такой неземной нежности, что они ему представлялись столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безымянны. Каждый из своих трех ежедневных розариев он посвящал укреплению души своей в одной из трех богословских добродетелей: в вере во Отца, Кто его сотворил, в надежде на Сына, Кто его искупил, и в любви ко Духу Святому, Кто его освятил; и эту трижды тройную молитву он обращал к Трем ипостасям через Деву Марию, во имя радостных, скорбных и славных Ее тайн.