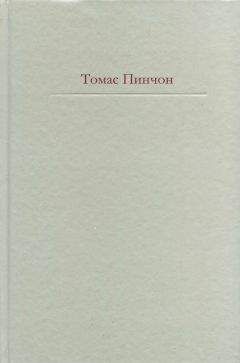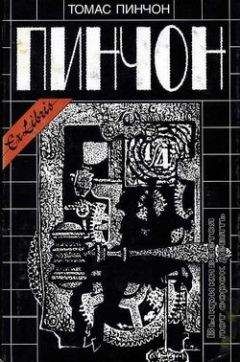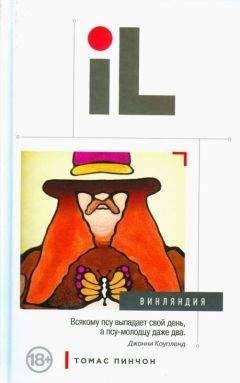Она очень проголодалась. Первые несколько дней они только ели — все, что продавалось в «Цвёльфкиндере». Меньше, чем год назад, и намного дороже. Но анклав невинности по-прежнему оставался приоритетом, поэтому хоть что-то да было.
Хотя в этом году детей меньше. Парк практически достался инженеру и девочке в безраздельное владение. Колесо и почти все прочие аттракционы стояли без движения. Не хватает горючего, объяснил ребенок-служитель. Над головой ревело люфтваффе. Почти каждую ночь вопили сирены, и вдвоем они смотрели, как в Висмаре и Любеке зажигают прожектора, а иногда слышали бомбежки. Что Пёклер делает в этом мире грезы, в этой лжи? Его страна ждала, пока ее сокрушит между захватчиками с востока и запада; в Нордхаузене же, когда первые ракеты уже совсем подготовились к боевым пускам, к воплощению инженерных пророчеств, старых, как мир на земле, истерия возросла до эпических пропорций. Почему в такой критический момент Пёклера отпустили? Кому еще в наши дни достаются отпуска? И что тут делает «Ильзе» — разве не выросла она из детских сказочек? грудки уже так видны под платьем, такие едва ль не совершенно пустые глаза без особого интереса соскальзывают на случайных мальчиков, предназначенных для «Фольксштурма», мальчиков постарше, которые ею уже не интересуются. Им-то грезились приказы, колоссальные взрывы и смерть — если и замечали ее, то искоса, украдкой… Папаша ее приручит… зубки прикусят пестик… настанет день, и у меня будет таких целое стадо… но сначала надо найти моего Капитана… где-то на Войне… сначала пускай меня выпустят из этого глухого угла…
Кто это прошел сейчас мимо — кто этот стройный мальчик, промелькнувший у нее на пути, такой светловолосый, такой белый, что почти невидим в жарком мареве, которое оволокло собою «Цвёльфкиндер»? Заметила ли она его, признала ли в нем свою вторую тень? Ее зачали, потому что папа как-то вечером посмотрел кино «Alpdrücken» и у него встал. Пёклер, уставясь похотливо в экран, промухал весь умный гностический символизм Режиссера при постановке света в игре двух теней — Каина и Авеля. Но Ильзе — некая Ильзе — пережила свою киношную маму, продержалась за концом фильма, и потому ей досталась тень теней. В Зоне все будет двигаться по Старому Промыслу, в свете и пространстве каинистов: не из драгоценного гёллизма, а потому что Двойной Свет всегда присутствовал там, за пределами всякого фильма, и этот жулик, этот джайвовый шутник-киношник в то время, по случаю, один заметил его и применил, хоть и не соображал — и тогда, и поныне, — что именно показывает нации лупоглазов… Потому в то лето Ильзе миновала себя, слишком сосредоточившись на некоем внутреннем полудне без теней, и скрещенья не отмечала — либо ей было все равно.
На сей раз они с Пёклером почти не разговаривали: то были их самые немые совместные каникулы. Она бродила в раздумьях, поникнув головой, волосы свисали на лицо, смуглые ноги пинали отходы, которые не собрала недоукомплектованная команда мусорщиков. Такой у нее период в жизни или ей не нравилось по приказу проводить время со скучным стареющим инженером в местах, из которых она уже много лет как выросла?
— Тебе же тут на самом деле не нравится, правда? — Они сидели у помойной протоки, кидали уткам хлеб. У Пёклера от эрзац-кофе и подгнившего мяса расстроился желудок. Болела голова.
— Либо здесь, либо лагерь, — лицо ее упрямо отвращено. — Да мне нигде не нравится. Мне все равно.
— Ильзе.
— Тебе тут хорошо? Хочешь вернуться к себе под гору? Ты разговариваешь с эльфами, Франц?
— Нет, я не рад тому, где я… — Франц? — …но я должен, у меня работа…
— Да. У меня тоже. Моя работа — узник. Я профессиональная заключенная. Я знаю, как добиваться поблажек, у кого красть, как стучать, как…
Она скажет это в любую минуту…
— Прошу тебя — хватит, Ильзе… — на сей раз Пёклер впал в истерику и шлепнул ее по-настоящему. Утки, удивившись резкому выстрелу, развернулись кругом, как по команде, и заковыляли прочь. Ильзе, не мигая, смотрела на него — без слез, глаза комната за комнатой тянулись в тени старого довоенного дома, где он бы мог бродить много лет, слыша голоса и отыскивая двери, шнырять, ища себя, свою жизнь, какой она могла бы стать… Ее равнодушие было невыносимо. Почти утратив контроль, Пёклер тогда свершил свой акт мужества. Он вышел из игры.
— Если не хочешь сюда возвращаться на будущий год, — хотя к тому времени «будущий год» в Германии значил уже так мало, — то и не надо. Так лучше будет.
Она тут же поняла, что он сделал. Подтянула коленку повыше и уперлась в нее лбом, подумала.
— Я вернусь, — очень тихо сказала она.
— Ты?
— Да. По правде.
И тогда он отпустил от себя все — всякий контроль. Он кинулся под ветер долгого своего одиночества, сотрясаясь ужасно. Он заплакал. Она взяла его за руки. На них двоих смотрели плавучие утки. Море стыло под дымчатым солнцем. Где-то в городе у них за спиной играл аккордеон. Из-за ветшающих мифических статуй кричали Друг Другу приговоренные дети. Лету конец.
Вернувшись в «Миттельверке», он снова и снова пытался попасть в лагерь «Дора» и отыскать Ильзе. Вайссман больше ничего не значил. Эсэсовские охранники всякий раз бывали учтивы, относились с пониманием, мимо них никак не проскочишь.
А работы навалилось неописуемо. Пёклеру не удавалось поспать и двух часов в сутки. Военные вести проникали под гору только слухами и дефицитом. Философия закупок раньше была «треугольной» — для одной детали три возможных источника на случай, если какой-нибудь уничтожат. В зависимости от того, что откуда не поступало или насколько запаздывало, ты понимал, какие заводы разбомбили, какую железную дорогу перерезали. Под конец уже нужно было стараться производить многие компоненты на месте.
Когда Пёклеру выпадало время подумать, он упирался во всевозраставшую загадку молчания Вайссмана. Чтобы его — или память о нем — спровоцировать, Пёклер из кожи вон лез, заговаривал с офицерами из службы охраны майора Фёршнера, выпытывал новости. Путался у всех под ногами. Поговаривали, что Вайссмана тут больше нет, он в Голландии, командует собственной ракетной батареей. Энциан выпал из поля зрения вместе со множеством ключевых шварцкоммандос. У Пёклера росла уверенность, что на сей раз игра завершилась взаправду, война поймала их всех, сообщила новые приоритеты жизни-смерти, и досуга для мучительства мелкого инженеришки больше не выпадет. Ему удавалось немного расслабиться, он справлялся с ежедневной рутиной, ждал конца, даже позволял себе надеяться, что скоро тысячи людей из «Доры» освободят, а среди них — Ильзе, некую приемлемую Ильзе…
Но весной он вновь встретился с Вайссманом. Пёклеру снился нежный «Цвёльфкиндер», который был и Нордхаузеном, — город эльфов, строивших игрушечные лунные ракеты, — он проснулся, а у койки — лицо Вайссмана, смотрит. Как будто постарел лет на десять — Пёклер еле признал его.
— Времени мало, — прошептал Вайссман. — Пойдемте.
Они двинулись сквозь белую, бессонную суматоху тоннелей, Вайссман шел медленно и чинно, оба молчали. В одном конторском закутке ждало с полдюжины офицеров, рядом — какие-то люди из СС и СД.
— Начальники ваших групп уже распорядились, — сказал Вайссман, — освободить вас для работы над особым проектом. Высочайшая секретность. Расквартируют вас отдельно, стол тоже отдельный, и вы не будете разговаривать ни с кем, кроме тех, кто сейчас в этой комнате. — Все заозирались: с кем же это? Они тут никого не знают. Все снова уперлись взглядами в Вайссмана.
Ему надо было модифицировать одну ракету, только одну. Серийный номер с нее удалили, нарисовали пять нулей. Именно для этого, мигом понял Пёклер, Вайссман его и берёг — вот какова Пёклерова «особая участь». Но в чем тут смысл? — ему следовало разработать пластиковый обтекатель для отсека силовой установки, заданных размеров и с определенными изоляционными свойствами. Инженер-двигателист был загружен по самое не хочу — перекладывал паропроводы и трубопроводы подачи горючего, перемещал узлы. Новое устройство, чем бы оно ни было, никто не видел. По слухам, изготовляли его где-то не здесь, а из-за высокой секретности прозвали «Шварцгерэтом». Даже вес его был засекречен. Закончили за две недели, и «Vorrichtung für die Isolierung» отправился на боевое базирование. Пёклер доложился прежнему начальству, и рутина вернулась на круги своя. Больше он Вайссмана не встречал.
В первую неделю апреля, когда с минуты на минуту должны были войти американские части, большинство инженеров паковало вещички, собирало адреса коллег, тостовалось на прощанье, бродило по пустеющим погрузочным платформам. Витало ощущение выпускного. Невольно насвистываешь «Гаудеамус игитур»[235]. Монастырская жизнь вдруг подошла к концу.