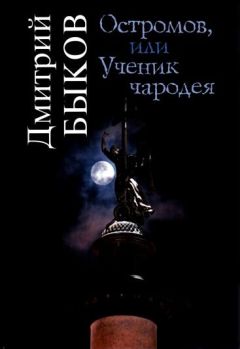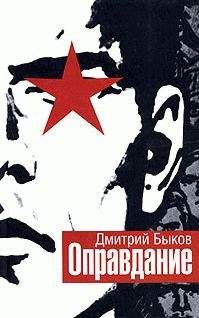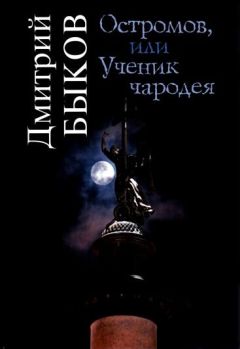И Осипов, смеясь, протоколировал.
Варварина, актриса, не отставала. Удивительно, как он сумел ей насолить.
— Я вообще не понимаю, — сказала она, вызванная в качестве свидетельницы по показаниям Когана, который видел ее в кружке, — как мог этот человек, эта низкая натура… почему к нему прислушивались образованные люди. Я всего дважды, ну, может, трижды… Вообще не понимаю этого мракобесия. Но мне кажется, что он и сам всерьез не принимал. Он половой психопат, мне кажется. Я бы на вашем месте назначила ему проверку. Он все это затеял только для того, чтобы иметь любовниц, доступ, полную власть. Он лечил этим, тут что-то мерзкое, что-то распутинское. Он одним говорил, что исцеляет, другим — что посвящает, а на самом деле это было все только для одного. И я быстро поняла это. У меня сейчас, я прошу заметить, совершенно другая жизнь. Я люблю, хочу строить семью. С заведующим рабочего клуба. Я хочу забыть, как стыдный кошмар… И, кстати, с появлением в моей жизни нового человека с истинно новым происхождением прошли эти чудовищные мигрени, которые он порывался исцелять я даже не могу сказать как.
Но кто особенно его топтал, так это Алчевская, с которой, собственно, ничего и не было. Для Алчевской это был бенефис. Остромов сам на нее показал, чтобы объяснить происхождение меча. Меч был не украден, а отдан добровольно.
— Это чудовище, — томно сказала Алчевская. — Вы представить себе не можете.
— А что? — заинтересовался Осипов.
— Это маниак. Я в жизни не встречала подобного. Он пришел якобы за мечом, но меч был не более как предлог, проверьте. Он и не интересовался этим мечом совершенно. Он сразу, как был, повалился на меня вот так, — и Алчевская стала показывать, как повалился. — И стал хватать, — Алчевская стала хватать.
— Почему не звали на помощь? — поинтересовался Осипов.
— Ах, но как я могла? Он сразу заткнул мне рот и…
— Достаточно, — смутился Осипов.
— Нет, главное не это! Он утверждал потом, что посвящает меня в третью степень, сразу в третью, минуя две первые. При этом он обнимал меня вот так, — и она показала Осипову, как именно Остромов ее обнимал. Осипов отпрыгнул.
— Он преступник, — томно повторяла Алчевская. — Я чувствовала себя совершенно под гипнозом, моя воля была подавлена, — и она собиралась уже показать Осипову, как именно он ее подавил, но Осипов вновь увернулся. Если был момент, когда он жалел Остромова, то вот.
9
— Тамаркина Екатерина Ивановна, тысяча восемьсот восемьдесят второго года рождения, — скучно сказал Осипов. — Как же это вы, Катерина Иванна, простая хорошая женщина, крестьянского происхождения, советская власть вам все дала, а вы видите что делаете?
— Чаво я делаю? — недоверчиво переспросила Тамаркина. Она не любила, когда ее попрекали крестьянским происхождением. — Мы ничаво не делали, мы все делали законно.
— Ну какое же законно, Катерина Иванна, — тянул Осипов. — Вы собирались и разговоры вели, так? Разговоры про божественное, про мистику всякую. Разводили всякого Бога и архангелов и способы летания без крыльев. Это все антинаука выходит и спекуляция.
— Ты давай мозги-то не дури мне, — сказала Тамаркина. — Ты там не был, ничего не слышал. Какая антинаука? Нам Борис Василич все по науке говорил. Он человек ученый, за границей учился. Про Бога вообще разговору не было.
— А про что был? — полюбопытствовал Осипов, насторожась.
— Про что надо, про то и был. Я тебе докладывать не нанималась. Ишь вылез! Нет закону, чтоб я тебе пересказывала. От нас вреда никому не было. Мы плохого ничего не делали. А ты людей держишь под замком, какое твое право? Это позору сколько! Как я сестры скажу, за что меня держали? За разговоры? Она скажет: за разговоры так просто никого! А какие у нас были разговоры? Он гимнастике учил, по здоровью учил, учил без слов разговаривать, так это что же, вред какой? Тебе вред от меня был?
— Темная ты женщина, Катерина Иванна, и не понимаешь ничего, — раздражался Осипов. — Ты не учи меня про закон. По закону вас за сборы без санкции с коммерческой целью каждого на три года в Соловки очень спокойно, — пугал он. — Он знаешь кто? Он агент французский и итальянский. Им выгодно там, чтобы вам всякой мутью головы забивали. Сегодня без слов разговаривать, а завтра секреты воровать. Я тебе серьезно говорю, как классово близкой. Эти все бывшие, это отребье дворянское, а тебе чего с ними? Я про тебя знаю, ты в горничных жила, сладко тебе было? Теперь у тебя жизнь — живи не хочу, а ты советской власти в глаза плюешь. Это как? — увещевал он уже почти ласково.
— Кому я плюю?! — переспросила Тамаркина. — Где я плюю? Чего ты выдумал?
— Ну а как же не плюешь. С кем связалась. Ведь они враги. Они все враги и чуждые, и у них одно в голове — все сделать как было. Ну скажи: они же говорили насчет вернуть старый строй? Если ты мне это все расскажешь, ты, может, и выйдешь скоро. А так ты по самое горло с ними в болоте, и я не знаю, чего смогу сделать для тебя, — видишь?
— Ты на них не лайся, — прикрикнула Тамаркина, — я от них худого слова не слышала, а от тебя и так, и сяк, и темная, и болото. Я, может, светлей многих была, мне Борис Василич говорил, я со способностями.
— К чему способностями?! — скорбно восклицал Осипов. — В облаках летать?! Опомнись, Тамаркина, у нас двадцать пятый год! Он мертвых не вызывал? А то они тоже любят…
Тамаркина все больше заводилась от того, что он нарочно подделывал тон, говорил самые простые и темные слова. Он считал ее, видно, дурой. Борис Василич говорил уважительно и слова употреблял серьезные, она их запоминала и сама себе удивлялась. А этот с ней говорил, как с дитем, хотя у самого не обсохло.
— Дурак ты, — сказала она ему. — Тебе делать нечего, и ты людям жить мешаешь. Ты настоящих воров лови, уже на рынок не пойти — средь бела дня обирают. Вы ж не можете ничего, у вас трамвая не дождешься, я ботинки купила, на другой день порвалось. А вы людей ловите. Разговаривать нельзя, летать нельзя, ничего нельзя. Ты сделай так, чтобы у тебя трамвай ходил, а потом лови. Расскажи ему, тоже… Чего тебе рассказывать? Рожу отъел, сидишь тут…
— Но-но! — осадил ее Осипов. — Не забывайтесь, арестованная!
— Все как есть тебе обскажу! — кричала Тамаркина, наступая на Осипова. — Все как есть в рожу кину, в самую твою рожу свиную, поганую!
— Э, бабка, тихо, бабка! — прикрикнул Осипов, поначалу еще полушутя.
— Тихомирить других будешь, а я тебе, уроду, все как есть в рыло выскажу! — кричала Тамаркина, только что не приподнимаясь над полом от внезапной силы. — Борис Василич такого, как ты, слушать бы не стал, на порог не пустил! Мы свет с ним увидали. А ты тут чего? Сидишь людям голову морочишь, а сам-то ты чего? Я тебя всего вижу, у тебя внутри ничего нет, одна пакость! И все вы такие, и я вам все обскажу, не прежнее время!
И Осипов чувствовал, что его словно пронзает шершавый луч, довольно болезненный; это ощущение трудно было назвать иначе — именно шершавый луч, жесткий, как напильник. Ему стало казаться, что Тамаркина и в самом деле что-то такое видит. Он затряс головой.
— Сядьте, Тамаркина! — крикнул он. — Я караул вызываю.
— А вызывай, я тебя не боюсь! Ишь пугальщик какой, караул он мне! Я таких, как ты, в девках шугала, нешто сейчас забоюсь? Урод ты гладкий, тебя затем нешто поставили, чтоб ты тут на старух топал? Ты только можешь на старух топать да детей пугать, а тебя бы в роты…
— Увести! — гаркнул Осипов. Он не понимал, почему боится старухи. Старуха была единственной, кто ни на что не отвечал, ни в чем не сознавался и яростно защищал Остромова. При этом она была классово чужда всему кружку, единственный представитель крестьянского элемента. И никакими угрозами нельзя было на нее подействовать — она от них только больше ярилась, и Осипов, страшно сказать, чувствовал, как Тамаркина с каждым допросом набирается силы. Надо было ее деть куда-нибудь, а лучше бы выпустить. Этого Осипов никому не говорил. У него начались кошмары. В кошмарах над ним летала Тамаркина. Никто из бывших, включая мужчин, не проявлял подобной твердости. С ними было даже скучно, так легко они надламывались. А Тамаркина, тьфу, чертова баба, демонстрировала худшие черты реакционного крестьянства, хоть и происходила из самой что ни на есть бедноты.
Происхождение, однако, не мешало ей летать над ним во сне. Он просыпался теперь в липком поту. Однажды, во время допроса, ему показалось, что она приподнимается над полом. Он не чаял, когда закончится следствие, и не понимал, зачем оно затягивается. Остальные тоже недоумевали: все ведь было понятно! Но Райский тянул, требуя подробностей, потому что сам еще не разобрался с главным своим врагом.
1
Этот главный враг Райского был не Остромов, как подумал бы наивный читатель. О том, чтобы лично допросить Остромова, Райский не мог и помыслить. Он боялся его панически, до стыдных судорог. Если даже Остромов был простым шарлатаном и морочил его три месяца, это было уже непростительно, потому что теперь он знал о Райском слишком много. Райский категорически запретил допрашивать Остромова о подробностях работы кружка — «только о прошлом. Настоящее нам известно». Мысль о том, чтобы вызвать его на допрос, внушала Райскому тошноту и ужас. Можно было, конечно, наврать ему: я притворялся, ловил… Но он помнил свои трансы, своего Даву, свои двадцать предыдущих жизней вплоть до Клеопатры, — и лицо его горело, а рот пересыхал.