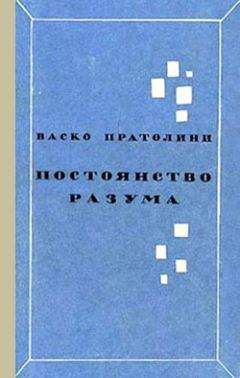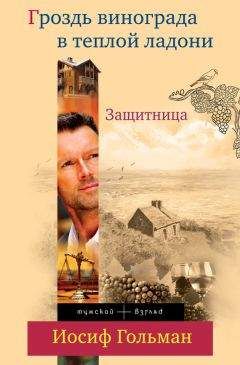Осень была на дворе, сухие листья потрескивали под нашими коленями, и шорох этот казался нам оглушительнее выстрелов. Когда мы добрались до последнего колышка, я подал Армандо знак подползти ко мне.
– Она здесь, – прошептал он, приблизившись; он полз, опустив голову цвета воронова крыла на вытянутые руки, и очень походил на притаившегося кота. Внезапно он вскочил и бросился на куст можжевельника, выглядывавший из щели между валунами. Приземистый, но ловкий, Армандо был очень силен для своих лет. Раздвинув кусты, он разрыхлил почву, и мы увидели вход в нору – отверстие, в которое, казалось, может проникнуть разве что сурок. Проскользнула потревоженная ящерица, муравьи забегали по нашим коленкам и рукам. Прильнув к земле щекой, я заглянул в щель; пришлось поначалу привыкать к темноте, затем я различил два вспыхивавших и гаснущих огонька. В нос ударил запах дичи, смешанный с острым ароматом можжевельника и свежестью мирта.
– Она здесь, здесь, шевелится, – прошептал я.
Армандо рассеял чары, он встал и сказал:
– Она нас услышала и не вылезет теперь из норы.
Мы собрали сухие сучья и листья, обрывки газет. Промасленную желтую бумагу, валявшуюся после пикника, – она-то нам особенно пригодилась – забили поплотней в нору, и Дино поджег весь мусор. Поднялся столб пламени и дыма. Теперь мы присели на корточки по обе стороны норы. Армандо укрылся поодаль, за дубом, мы даже подумали было, что он струсил. Палку он держал как игрок в бейсбол.
– Лупите по ней сразу, а то она раздерет вас не хуже волка.
Голос его звучал еле слышно, мы с Дино молча подбадривали друг друга улыбками. Огонь запылал сильней, языки его лизали запал из бумаги, проникали внутрь норы. Пока еще ничего интересного не происходило, только пламя с треском пожирало сухие листья да слезы выступали на глазах от дыма. Внезапно лиса вырвалась за огневую завесу и, воя, пролетела, как снаряд, задев нас хвостом; ни Дино, ни я и опомниться не успели. Но в то же мгновенье Армандо, не сходя с места, размахнулся палкой и ударил ее на лету, она грохнулась наземь и, оглушенная ударом, скатилась на спине под откос. Армандо бросился к ней и что было сил стукнул по голове. Тогда и мы подбежали, опьяненные победой. Испуг прошел, силы возросли стократ, мы колотили лису, покуда не размозжили ей голову. Теперь она лежала неподвижно – пасть в крови, глаза закрыты, острые зубы оскалены.
Лисью тушку спустили в колодец, почти на самое дно, и через неделю, когда мясо стало помягче, зятья ее ободрали, а синьора Дора приготовила жаркое. Соус был приторным, пряным, противным на вкус, однако Армандо пальчики себе облизывал. Милло с Иванной тоже полакомились, хотя и ругали нас вместе со всеми: Иванна чуть с ума не сошла при мысли об опасности, которой мы подвергались.
– Похоже на зайчатину, но с другим привкусом… куда лучше, чем рагу из дичи… Жаль, что ее не едят с макаронами.
Лисятины отведали и чернорабочие, и водители грузовиков. Ел ее и Дино, которого мы пригласили. Ему было даже неловко передо мной за то, что она так пришлась ему по вкусу.
Армандо припомнил эту историю, когда пришло время менять вывеску над трактиром.
Порой я спрашиваю себя, не могла ли вся моя жизнь стать не просто иной, но и лучшей, открыть мне дорогу к более сознательному опыту, к более обширным интересам и целеустремленному мышлению, если бы «мы пошли на жертвы», как сказала Иванна на семейном совете, решавшем мое будущее. Мы живем в обществе, где в железной схватке сцепились не иссякшая еще энергия капитала, которому буржуазия на каждом шагу подставляет плечо, и мощь пролетариата, который, выйдя на сцену истории, еще связан по рукам и ногам смирительной рубашкой нашей демократической системы. Мы живем в обществе, которое порвало с наследственными привилегиями несвободной инициативой. В нашем обществе понятие богатства связано лишь с понятием коррупции, у нас больше не импровизируют, у нас лишь переходят из одного слоя в другой, все существенное обусловлено идеологической и моральной зрелостью специалистов, в руках у которых исследовательское дело и производство. Я спрашиваю, считали ли своим долгом Иванна и особенно Милло, решая мою судьбу, дать мне образование, открывающее доступ к карьере инженера? Сложись все по-другому, и я бы сегодня сидел на университетской скамье, а не стоял бы у фрезерного станка; мой мозг был бы занят математическими вычислениями, а не резьбой детали. Как вышло, что тщеславие Иванны не возобладало над рассудительностью Милло? Я сделался бы посредственным инженером или администратором, душой и телом преданным хозяевам, может, стал бы даже ускорять ход конвейера, превратившись в служащего заводской администрации. Нет, я слишком уважаю себя, чтоб заниматься такими предположениями! Оказавшись не на месте, я был бы способен, без особого сожаления, вернуться в строй, но это подвергло бы испытанию мои возможности. Таков обман и высшая несправедливость системы, и нет таких human relations,[8] которые могли бы их устранить. Вся система «человеческих отношений» нарочно задумана, чтобы узаконить подобное положение. Таким, как я, подлинные «тесты» предлагают при рождении, это единственно важный экзамен психотехники. За нас отвечают отец с матерью – живые или мертвые. Сантини Морено – квалифицированный рабочий, Иванна Бонески, неудавшаяся учительница, теперь кассирша. Выбор сделан. Ты мог стать барменом или фрезеровщиком, мог выбрать иную дорогу, которая не привела бы к такому итогу.
Обо всем этом нельзя забывать – я и помню. Впрочем, я лишь изредка бываю неспокоен, а вообще-то я счастлив. Ответ заключен в самом вопросе: нельзя бунтовать в одиночку. Когда ты один, тебе хочется швырять ручные гранаты, хочется стрелять. Старики об этом позабыли, а может, никогда всерьез и не думали. У меня самого появляется потребность в иных мерках, когда мы вместе с Лори начинаем выяснять, зачем живем, каково наше место в мире.
Но эта глава открывается днем, когда Лори вошла в мою жизнь. А покуда мне только одиннадцать лет, на руках у меня табель с отметками, почти сплошь четверки и пятерки, только по итальянскому тройка. Вот какое нам велели написать сочинение: «Подходит лето, расскажи, как ты проведешь каникулы. Чем бы ты хотел заняться, когда кончишь начальную школу?»
Я решил написать всю правду, но вышло не на тему. Написал, что только раз в жизни побывал у моря, еще совсем маленьким; еще написал про ежедневный отдых после уроков и про зимние каникулы, когда дует трамонтана,[9] и, главное, про летние, когда так сильно печет солнце, и про то, что стоит мне только оказаться вместе с Армандо и Дино, как мы начинаем охотиться на лисиц и подкладывать петарды на рельсы там, где возле Ромито колея уходит в сторону (петарды такие, что даже скорые поезда надолго останавливаются). Насчет будущего все, конечно, ясно: поступлю на «Гали»! Разве есть на свете что-нибудь привлекательнее?
Выбор я сделал сам – буду работать на фрезерном станке рядом с Милло. Милло и Иванна помогли мне, может быть, даже были растроганы моим решением, но что поделаешь, если их кругозор не шире окошка кассы, ворот цеха. Их идеалы, их чувства остановились в развитии; они называют это верностью, считают это постоянством.
– Ты думаешь, я не хотела, – говорит она мне теперь, – чтоб сын у меня был образованный? Да ради такой цели я готова была бы землю рыть, пойти на любые лишения. Я тогда была еще молода, могла не бояться за завтрашний день, не мучить себя вопросом: а что, если не смогу больше платить за учебу и Бруно окажется на распутье? Ничего подобного у меня и в мыслях не было, я ведь не скряга, не эгоистка. Конечно, я бы не согласилась на помощь Миллоски, и ни от кого бы ее не приняла. В те времена я работала в баре «Дженио», жизнь улыбалась мне, несмотря на все тревоги.
– Тогда жив был Лучани.
Она вздыхает, но оставляет мой вызов без ответа.
– Я даже подсчитала, ты получил бы диплом к моему сорокалетию. Мне и сейчас еще до этих лет далеко, но думалось, что приду к ним в лучшем состоянии, а вот износилась, выдохлась.
– Неправда, вечно ты прибедняешься, не кокетничай, пожалуйста!
– Тогда мне нравились темные костюмы, ты знаешь, траур ведь я никогда не надевала. – Был у нее такой жакет стальной, с синеватым отливом, цвета «лондонского дыма» – не совсем, конечно. Платья она носит целую вечность, никогда не идет в ногу с модой. Ей они нужны, только чтоб проехать на работу и обратно в автобусе да пройти от остановки, все остальное время она то в рабочем, то в домашнем халате. – А ты еще носил короткие штанишки, конечно, и в тот вечер у тебя были исцарапаны колени.
– Ну, а он как выглядел?
– Миллоски?
– Вот именно.
– Как он мог выглядеть? Всегда один и тот же коричневый плащ, рабочий комбинезон или все тот же серый костюм. – Только на ее свадьбу с Морено, припоминает Иванна, он пришел в синем костюме. – Наверно, одолжил у кого-нибудь, хоть сидел он на нем недурно. Ну, волосы у него тогда были – целая копна, ярко рыжие, прямо огонь.