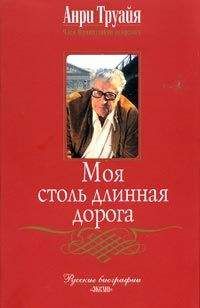— Если бы не вы, — говорил он, — я бы и не подумал о Кюлье. Я бы не решился обратиться к нему. А ведь это он со своим опиумным снадобьем спас ребенка!
Незадолго до Рождества Фредерик-Шарль стал на ножки и впервые вышел из своей комнаты. Он сильно вырос, все ему стало коротко. Срочно заработала портниха. Жорж Дантес ликовал, он помолодел лет на десять. Чтобы отпраздновать выздоровление внука, он решил устроить праздничный обед. В виде исключения я был на него приглашен…
Вот так, притворяясь, что разделяю общее веселье, я первый раз полностью погрузился в атмосферу этой семьи. На самом деле меня жгло такое любопытство, что я забывал есть. Конечно, меня посадили на краю стола и никто не обращался ко мне, но тем не менее старейшина сделал меня частью клана. Клана, уважаемого и почитаемого со всех точек зрения.
Здесь была старшая из дочерей Жоржа Дантеса Матильда Эжени, с мужем, генералом Метманом — сам в мундире, вся грудь в наградах. Здесь была его вторая дочь, Берта Жозефина, супруга графа Жака Пьера Луи Эдуара де Вандаля, руководителя почтового ведомства. Здесь была и третья его дочь, Леони Шарлотта. Она была незамужней, но зато ведь — фрейлина императрицы! Ну и конечно, сын, Луи Жозеф, вернувшийся раненым из Мексиканской кампании. Именно он, излучая непринужденность и добродушие, главенствовал за столом, перекрывая все голоса своим звучным баритоном.
Все тут было прочным, солидным, богатым, надежно защищенным. Все — без сучка без задоринки. Все безупречно. Образцовое семейство для примера в учебнике по хорошему тону.
Убийца Пушкина с его свояченицей понаделали прекрасных детей, и те, в свою очередь, радостно продолжились дальше. И я, единственный сын у матушки, исходил завистью, глядя на эту большую, дружную и благополучную семью. Успех Жоржа Дантеса дерзко водворился на авеню Монтеня, и это усиливало мое восхищение и обостряло злость. В их роскошной компании я чувствовал себя червем, проникшим в прекрасный плод.
По обычаю, детям накрыли в соседней комнате. Оттуда время от времени доносились ребячий смех, звонкие голоса, и это добавляло прелести собранию родственников. Три прислуживавших на обеде лакея суетились в помещении с дубовыми панелями вокруг стола, накрытого кружевной скатертью и уставленного тонким фарфором и серебром. Десерт представлял собою огромный пирог, изобилующий кремом. Глава рода самолично разрезал его с мастерством и ловкостью, вызвавшими бурные аплодисменты присутствовавших. Когда обслужили взрослых, лакей отнес точно такой же пирог ребятишкам. Мы пили и пили эльзасские вина, и только в половине четвертого пополудни все встали из-за стола.
А часом позже в моем чулане появилась Изабель Корнюше с неизменным подносом. Я отказался от пирога — праздничный пирог пока еще камнем лежал в желудке, но на чай набросился жадно. А экономка меня спросила:
— Ну и как прошел этот торжественный обед?
— Обед был превосходен, и вообще все весьма симпатично, — ответил я. И добавил из вежливости: — Я сожалел только о вашем отсутствии.
Пепельная мадемуазель бросила на меня потерянный от благодарности и покорности взгляд:
— Как можно!.. Я была на своем месте… я обедала с детьми… Надеюсь, они не слишком шумели, не беспокоили вас?.. Ах, они такие подвижные, такие возбудимые — никак не удается заставить их помолчать хоть немножко… Но в любом случае, господин барон и вся семья приняли вас… Это такое чудо!
Я смотрел на нее с какою-то новой нежностью. Только она заслуживала подобного взгляда: она стояла выше и стоила больше всех этих дантесов, метманов, вандалей, которых возносила до небес. Ее преданность службе, долгу, чужим людям отнюдь не унижала, наоборот, возвеличивала милую женщину в моих глазах. Я был уверен, что Пушкин полюбил бы ее. Но сама Изабель не отдавала себе в этом отчета.
— До чего же им повезло с вами, — вполголоса сказал я.
Мадемуазель Корнюше втянула голову в плечи и юркнула к себе в норку.
В следующее воскресенье то же любопытство повлекло меня в Сен-Филипп-дю-Руль, — этот храм, как я знал, служил семье Дантеса приходскою церковью. Какая разница с нашим недавно освященным на улице Дарю собором Александра Невского! У нас атмосфера патриархальная, у нас всё душевно, как-то даже немножко примитивно, словно на деревенском богослужении. Тут всё великолепно, холодно и отлично организовано. Собрание элегантных гостей (иначе не скажешь!) заполняет неф. Вокруг прекрасные туалеты. Мирская суета наравне с религиозными чувствами. Все семейство Дантесов здесь, разумеется, в полном составе. Они сидят на первых скамьях, и из глубины церкви я, разумеется, их почти и не вижу. Но представляю себе, что Жорж Дантес молится истово. Только ведь он не кается, он не просит доброго Бога простить ему смерть Пушкина, помиловать его, нет! Если он и возносит свою душу к небу, то единственно — чтобы повысить биржевые курсы.
Католическую мессу я слышал первый раз, и она показалась мне более культурной, что ли, и менее пылкой, чем православная литургия. Никакие, даже самые гармоничные звуки органа не могли заменить мне нежного и сладкого гудения человеческих голосов, поющих хвалу Господу. Само то, что прихожане тут сидели, а чтоб преклонить колени, ждали сигнала колокольчика, показалось мне до противности комфортабельным. И вдруг у меня мелькнула мысль, тотчас же переросшая едва ли не в убеждение, будто существует два Бога, один французский, этакий весь толерантный, и этот Бог предпочел бы закрыть глаза на трагедию с Пушкиным, а другой наш — русский, бородатый, ревностный и ревнивый, деспотичный… И этот наш Бог, поселившийся на улице Дарю, Он и велит мне ударить как можно сильнее. Я вышел незадолго до окончания мессы, чтобы не возникла надобность излагать свои впечатления о святой католической литургии господину Дантесу.
Последние дни декабря прошли незаметно, ничего особенного не случалось. Выплачивая мне заработанное в конце месяца, Жорж Дантес прибавил к нему то, что назвал «вознаграждением за верную службу». Изабель Корнюше удостоилась «награды за преданность». Я принял нежданный дар, выразив раболепную признательность, какая положена в таких случаях. А назавтра, 1 января 1870 года, явился к своему щедрому работодателю «с наилучшими пожеланиями».
В прихожей яблоку было негде упасть. Тут толпились все, кто рвался в друзья к господину барону, те, кто уже был ему чем-то смутно обязан, и те, кто намеревался стать его должником — все торопились засвидетельствовать свое почтение и невыразимую симпатию к хозяину дома. Нет, зря я иронизирую — этот человек, решительно, любим всеми. Каждую секунду звякает колокольчик у входной двери. Несут и несут… Пакеты, визитные карточки, цветы… Да, он любим всеми. Всеми, кроме меня, хотя как раз по отношению ко мне он то и дело проявляет поистине отеческую доброжелательность. А вынес ему окончательный, не подлежащий пересмотру приговор кто-то другой, не я, это было сделано помимо меня, лишь — через мое посредство. Другой, одно имя которого станет моим оправданием, когда придет время свершить акт возмездия. Для того чтобы войти в кабинет, посетители выстаивали длинную очередь. Когда пришел мой черед и я стал на порог, хозяин, приветливо протянув руки, двинулся ко мне.
Я забормотал:
— Разрешите, господин дʼАнтес, выразить вам свои наилучшие пожелания на Новый год!
Мою наглую ложь барон принял с обезоруживающей легковерием улыбкой.
— А я вам желаю, со своей стороны, полного успеха во всех ваших начинаниях…
Несчастный! Он ведь не подозревал, что единственное «начинание», о полном успехе которого я страстно мечтаю, это исполнить вынесенный ему смертный приговор! Он излучал барскую любезность, пожимая мне руки. Мы еще немножко поболтали о том о сем, затем я уступил место другому визитеру.
Вечер мы с Даниэлем де Рошем провели в «Мабилль». Адели не было. Наверное, уже подобрал кто-то, что ж, остается надеяться, что девица в хороших руках. Возвратившись домой, я написал матушке, написал о том, как люблю ее, как желаю всего самого доброго. В каждом своем послании она торопила меня поскорее уехать в Ниццу, а я в каждом ответном заверял, что не премину это сделать в ближайшие дни, хотя превосходно чувствую себя в Париже, где завязал ценные знакомства.
Назавтра я стал жертвой дурацкого происшествия, которое в тот момент, как я опасался, могло погубить всю мою стратегию. Стоило выйти на улицу и двинуться в направлении авеню Монтеня, где ждала работа, мчавшийся галопом фиакр опрокинул меня на землю. Со всех сторон набежали прохожие, желающие помочь. Кучер принялся извиняться: он, дескать, не смог сдержать упряжку, поскольку за ночь подморозило и мостовая покрылась корочкой льда. У меня глухо болело бедро, я сильно хромал. Но тем не менее решил идти к барону, который ждал своего секретаря, как обычно, к трем пополудни. Омнибус довез меня до Елисейских Полей. Забыл сказать: в момент, когда меня ударило о землю, я испытывал ужасный страх. Нет, я не боялся быть убитым, я боялся умереть до того, как смогу исполнить свою миссию. И случившееся заставило меня понять, что подобная опасность с каждым днем переноса казни Жоржа Дантеса на более позднее время все возрастает и возрастает. Я ведь нахожусь во власти любой болезни, со мной может случиться любая авария, или вдруг я просто так ослабею, что оружия в руках не удержу… А веду себя между тем, будто совершенно неуязвим. Нужно выбрать точную дату!