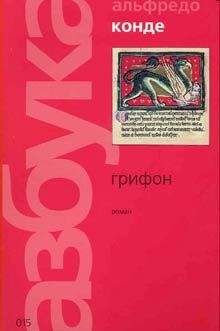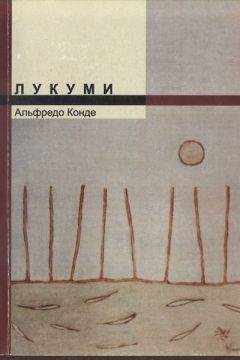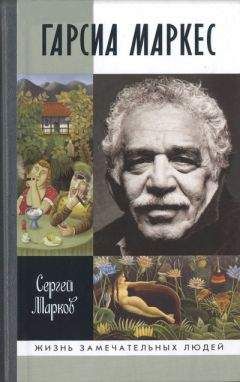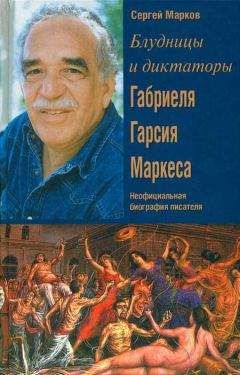В Галисии есть строения, служащие амбарами, у которых такая своеобразная форма, что туристы часто принимают их за часовенки и думают, что, несмотря на внешнюю непритязательность, внутри они богато убраны; их количество кажется необычным в стране, народ которой меньше всего можно заподозрить в излишней религиозности. Так вот, на крышу этих амбаров обычно водружается крест, а раньше там помещали бычьи рога или конский череп — их и сейчас еще можно увидеть вблизи Камбадос [33], в милой его сердцу долине Сальнеc, — и делается это, по словам тамошних жителей, для того, чтобы ночью дьявола разорвало в клочья, а злых духов пораскидало кусками, если они попытаются проникнуть внутрь, в кормящее материнское чрево зернохранилища, принимаемого иностранцами за церквушку. Так рвется в клочья и душа писателя, превращаясь в жуткие, грязные, мокрые лохмотья, стоит ему только проникнуть в утробу, во чрево, в бездну своего существа, занимаясь мучительным самоанализом, поиском, усердным извлечением из потаенных глубин самого себя обитающих там чудовищ; это — путь самоотречения, на котором нет места ни мистике, ни романтизму, это — дорога к храму, который несет в себе каждый из нас, медленно и незаметно разрушая его. И вот чудовища выходят наружу, и возникают романы; они питаются из источников, которые создает сама жизнь, предлагая их писателю на каждом повороте его пути, пусть он даже и не просит об этом; но надо тщательно соизмерять свои усилия, чтобы творческий напор не ослабел раньше времени. Поэтому писатель контролирует свое вдохновение, он предчувствует неизбежность упадка, он знает, что воздух, один только воздух остался там, внутри, во чреве амбара, некогда доверху наполненного тем, что он — о дерзкий глупец! — тащил оттуда потихоньку, безжалостно терзая — о несчастный! — свои собственные останки.
«Послушай, Люсиль, — говорит ей писатель в надежде отвлечь ее от Грифона, который уже начинает преследовать и поглощать его, возникая откуда-то из мрачных и тайных глубин его существа, — давай оставим на сегодня Грифона, это все-таки моя забота». Но она продолжает настаивать: «Рассказывай мне о нем, думай вслух, я хочу видеть, как создается роман». Оказывается, вчерашний опыт обсуждался сегодня рано утром в университете, на том занятии, которое писатель прогулял, отсыпаясь в своей постели, не в состоянии преодолеть похмелье; и обсуждалось это как нечто из ряда вон выходящее, к чему имели счастье быть допущенными лишь четыре дамы. Каждая говорила о своем сотворчестве, призывая на помощь собственное воображение, так что в конце концов рождение образа предстало как некое литургическое действо, причем четыре жрицы будто бы приняли в нем самое деятельное участие, выступив в качестве заклинательниц, превративших изначальный акт оплодотворения в мистический ритуал, в котором они сыграли чуть ли не главную роль. Возможно, на такой поворот утренней дискуссии повлияли неприветливые взгляды молодых людей, пренебрежительная усмешка какой-нибудь студентки или удивленные и выжидательные взгляды остальных, но так или иначе за несколько часов писатель неожиданно для себя как бы перешел в иное измерение, в котором ему, по-видимому, будет совсем неплохо.
«Разумеется, Грифон должен возникнуть в каком-нибудь определенном месте, — сказал он Люсиль, — он мог бы появиться и здесь: выйдет из воды, отряхнется, и брызги полетят на наш дуб; но это место не кажется мне особенно подходящим, сам не знаю почему». Он снова вступил в игру.
Студенты, уставшие от сосисок и музыки, начали собираться в обратный путь, и воздух стал удушливым от густых клубов пыли, которую поднимали трогающиеся с места машины; пыли было так много и она была такой плотной, что приходилось делать паузы между выездами. Люсиль закашлялась, и пожилому Профессору пришлось несколько раз ласково, но достаточно крепко похлопать ее по спине, не потому, что это могло ей помочь, но чтобы она видела его заботу; он приговаривал подобающим случаю тоном: «Сейчас пройдет, дорогая, сейчас пройдет», — чувствуя себя одновременно и смешным, и бесполезным. Приступ кашля не проходил, и он, ощущая себя героем, пошел к реке, намочил носовой платок и подал преподавательнице, чтобы она дышала через мокрую ткань. Платок действительно был мокрым, на губах Люсиль он быстро согрелся, а капельки, скользившие у нее по груди, оставались холодными; они скатывались по ложбинке между грудями, и старый обитатель края земли следил за ними жадным взором, угадывая их путь.
Машин уже почти не осталось, надо было ехать и им. Но тут Люсиль заметила, что пропахла дымом и сосисками, и он предложил ей выкупаться. «Прямо сейчас?» — спросила она. «Сейчас», — подтвердил он и стал раздеваться, вновь направляясь к реке. Люсиль последовала за ним, и вскоре обнаженные тела двух литераторов уже бороздили безмятежные воды ночной Дюранс. Неподалеку от них, в соседней излучине реки, молодые голоса возвещали о том, что и там происходит то же самое, и преподавателям показалось, что они совершают нечто бесхитростно запретное, будто их застали за маленькой детской шалостью. Они резвились в воде, как в юности, но в какой-то момент она сказала ему: «Только не здесь». Они поцеловались и вышли из реки, взявшись за руки. Профессор поцеловал ее снова, страстно, но не настаивая; ее «только не здесь» смирило его порыв и решимость, заставив сдерживать и контролировать свои действия. «А почему бы не здесь?» — спросил он себя, боясь произнести это вслух. Луна стояла высоко, ночь была еще теплой, а вода предрасполагала к легкому касанию тел, к соприкосновению покрытой мурашками кожи, чувствительной к любой ласке, к любой близости.
В машине он снова поцеловал ее, более страстно и уже настойчиво, но она опять возразила, теперь уже с нежностью, что здесь неподходящее место. Он внял ее доводам; позади остались голоса молодых людей: они разносились по берегам, отдаляясь, сливаясь в звенящий смех, взлетавший над речными заводями или прятавшийся в дубовых зарослях; постепенно голоса стихали, растворяясь в пространстве.
Они поехали вверх по реке, пересекли мост и возвратились в Экс. О Грифоне речи больше не было; машину вела она.
Прежде чем принять какое-нибудь решение, Посланец имел обыкновение сначала все внутренне отвергать; так, вначале он сомневался в дееспособности военного ордена, учрежденного самими членами Святой Инквизиции, не верил в возможность его упрочения и роста, предвидя несогласие короля Филиппа, — ведь в числе предпосылок создания ордена было и негласное намерение ограничить власть великого монарха, правившего доброй половиной мира и властвовавшего над всеми умами.
Шан де Рекейшо, врачеватель, старинный друг, слушал его молча; он поставил правую ногу на низенькую скамеечку — на ней специально для этого лежала подушка — и сложил сцепленные пальцами руки на большом мягком животе; его живой умный взгляд внимательно следил за меняющимся выражением лица говорящего, изборожденного, казалось, воспоминаниями о местах и приключениях, в которых тому довелось побывать и о которых лучше и не догадываться. Посланец пояснил, что в Воинский Орден Пресвятой Девы Марии Белого Меча смогут войти только истинные христиане, ничем себя не запятнавшие, и только после тщательного сбора сведений о них и придирчивой проверки, управлять же Орденом предстоит самому Великому Инквизитору; остальные члены Ордена должны подчиняться ему как в юридическом, так и в гражданском порядке, сами они не будут наделены какими-либо правами или полномочиями — ни гражданскими, ни уголовными. Это была серьезная, строго продуманная попытка ограничить власть императора Филиппа. Сейчас Посланец не в состоянии дать более никаких объяснений; непреложно одно: поскольку он с самого начала сомневался в осуществимости этих планов, у него есть запасные варианты, направленные на достижение главной, обреченной, казалось бы, на провал цели; но следовало хранить эти подспудные планы в глубине сознания, в строгой тайне, не позволяя им никоим образом всплыть на поверхность.
Эскулап с недоверием смотрел на своего друга, с чем-то он соглашался, с чем-то нет. Он уже много лет был знаком с этим загадочным человеком, подчас крайне странным и неизменно молчаливым; на его губах часто появлялась любезная улыбка, но пронизывающие, изучающие глаза никогда не улыбались. Если бы врач не знал его так давно, он бы открыто высказал свои колебания; но он хорошо изучил скрытную, полную тайн натуру друга: этот человек был упорен в достижении цели, какой бы далекой она ни казалась. Его взгляд всегда был устремлен туда, куда он намеревался прийти, и он так ясно, так четко видел конечную цель, что мог позволить себе роскошь пренебречь наикратчайшим путем, который обычно избирают менее дальновидные люди и которого он избегал, слишком хорошо отдавая себе отчет в быстротечности и изменчивости времен. Кто-нибудь другой, не знавший его, мог бы заподозрить Посланца в вероломстве и темных махинациях, но только не он, Шан де Рекейшо. Посланец тщательно скрывал от посторонних глаз свою истинную сущность, и лишь самые близкие ему люди, зная, что он представляет собой в действительности, решались открыто не подвергать сомнению эту его тактику — два шага вперед, один шаг назад. Возможно, он усвоил ее много лет назад, в Ведре, когда хоронил одного своего молодого друга, погибшего самым нелепым образом: перевернулась карета, в которую тот сел, надеясь как можно скорее достичь цели своей поездки. Тогда он понял, что предел неизбежен и ты обязательно достигнешь его; и если тебе суждено упокоиться в земле, то ты упокоишься, как бы ты ни пытался обмануть себя, делая один шаг назад на каждые два шага вперед. В жизни, как и в истории, чему быть, того не миновать, а один маленький шаг назад успокаивает совесть, смягчает страх, утихомиривает страсти и неизбежно, неумолимо ведет к рубежу, обусловленному ходом вещей. Шан де Рекейшо знал это, он лучше, чем кто-либо, знал, кто такой Посланец. В его памяти отчетливо, как никогда, всплывали события далекого детства, свидетелями которых маленькие друзья оказались в епископском дворце — в нем все кипело, содрогаясь от бурной деятельности и накала страстей, доходя до исступления, взрываясь криками. Мальчики наблюдали за происходящим с высоты своего малого роста, слушали отдаваемые распоряжения и делали выводы, которые долго еще будут таиться в их подсознании, пока ход времени и разговоры взрослых не позволят им установить наконец необходимую связь причин и следствий, слов и дел.