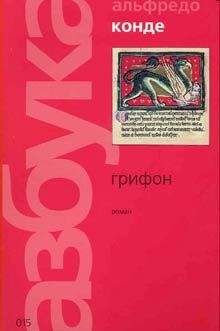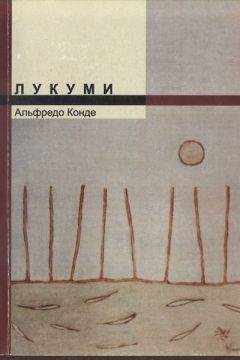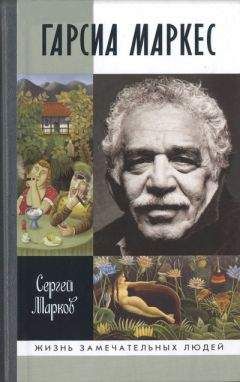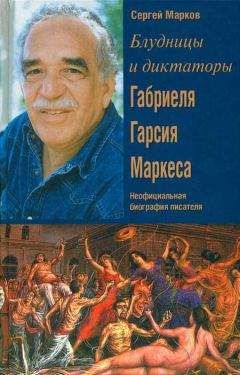Они были совсем детьми, и дядюшка эскулапа, архиепископ Компостелы, этого священного города на краю земли, громко сетовал, что Галисия, будучи столь древним правоверным и большим королевством, так и не удостоилась чести иметь своего прокуратора. У архиепископа Бланке было достаточно причин, чтобы жаловаться: его оскорбляло, что столь прекрасное королевство, столь мирная обитель находится в подчинении Саморской епархии. Графу Вильяльбе, потребовавшему прав для своей родины, приказано было в небывалый срок — один только час — покинуть двор и отправиться в ссылку.
Дядюшка лекаря, архиепископ Компостелы Франсиско Бланко, обманутый наивным и как бы отсутствующим видом двоих мальчуганов, особенно от них не таился и прямо на их глазах собирал людей, отдавал распоряжения, отправлял и получал послания, в то время как густая безмолвная сеть заговоров связывала между собой целое войско вооруженных людей, уставших от обид и унижений. «О госпожа моя, Шоана де Трастамара [34]!…» — горестно восклицал он, будто творя молитву, в надежде призвать тех, кто мог бы явиться в Компостелу лишь в святой компании привидений.
Монарху стало известно, что Компостела подстрекает Галисию к бунту, и это заставило его перевести кортесы в Ла-Корунью [35], отменив заседания в святом граде; вскоре король отправился морем на север, оставив Галисию погруженной в безмолвие.
С тех пор в течение нескольких лет мальчики играли в кортесы, и Посланец всегда был архиепископом, а Шан — королем; архиепископ без устали писал и отправлял послания, навлекая гнев на того, кто прибыл из чужих краев и заставил всех замолчать. Позже, когда мальчики выросли, друг будущего эскулапа исчез.
Время от времени медику удавалось получать кое-какие известия о своем друге. Иногда он угадывал его в загадочных персонажах, слухи о которых доходили до его ушей; были случаи, когда он не сомневался, что речь идет о его товарище по детским забавам; дважды он узнал его и долго и обстоятельно беседовал с ним. Один раз — в Аахене, где тот состоял аптекарем в одном из самых известных тамошних монастырей; в другой раз этот произошло в Эксе, у кафедрального собора — он служил капелланом в женском монастыре и, кроме того, заботился о паломниках, следовавших по Галисийской дороге, давая им советы и наставления. Причем он обнаруживал не только основательное знание пути, но и знакомство с самыми последними событиями, происходившими в затерянном на краю земли королевстве, отрезанном от остальных частей Испании и ставшем священной гробницей, местом поклонения всей странствующей и ищущей приключений Европы.
И вот теперь он здесь, и он рассказывает о каком-то Воинском Ордене, в котором промыслы Господни смешиваются с мирской политикой; он снова играет, как в детстве, в архиепископа, предоставляя другу роль Императора, заставившего окончательно смолкнуть голоса, которых и без того почти не было слышно.
И врач сказал:
— Послушай, ведь я не Карлос [36], я Шан и занимаюсь медициной.
Посланец прервал свой рассказ и спокойно посмотрел на собеседника, ничего не отвечая.
— Я врач. Ты же был аптекарем, потом капелланом… Кто ты теперь и как тебя называть?
Глаза Посланца сузились и стали как щелки. Возможно, его заставила сощуриться близорукость, а может, и нет.
— Теперь я — Посланец Святой Инквизиции.
— Ты?
— Я.
— И что же ты делаешь?
— Все, что могу.
Врач не стал задавать ему больше вопросов. Он встал со стула, уронив скамеечку, и посмотрел на серый вечер, опускавшийся на серые камни и зеленоватые от мха фасады домов, неясные в печальном свете сумерек.
— Кто знает, что тебя ждет. Здесь ты у себя дома. Впрочем, ты и сам это знаешь.
Посланец положил руку на рукоять шпаги; его жест был неторопливым и твердым, но отнюдь не властным, он просто удостоверился, что оружие на месте и готово к действию. Видимо, шпага, заключенная в ножны, была красива — об этом можно было судить по рукояти, инкрустированной белым перламутром, — легка и не слишком роскошна. Она была на месте, она всегда была тут, даже когда ее владелец входил в собор или сидел перед капитулом. Шан де Рекейшо заметил шпагу, когда рука его друга погладила ее.
— А это зачем?
Посланец отпустил рукоять шпаги, пожал плечами и сказал:
— На дороге полно грабителей, и нелишне напомнить им, что и мы можем за себя постоять.
На город спускалась ночь, и строительные работы, которые постоянно велись в Компостеле, постепенно затихали. Перестали доноситься размеренные удары каменотесов со стороны Фонсеки, где под руководством мастера Алавы [37] завершалось строительство зданий факультетов теологии, канонического права и искусств; в некоторых окнах засветился дрожащий золотистый огонь свечей и лампад. «Во всей Европе уже ночь», — заметил Шан де Рекейшо.
На ужин они съели немного телятины — мясо молочного теленка, которое служанка принесла на блюде, небрежно поставив его на стол, занимавший середину комнаты. Тысяча жителей, обитавших в те времена в святом городе, скорее всего уже завершили свою вечернюю трапезу, не слишком заботясь об умеренности в еде, а немногочисленные паломники на постоялых дворах пили, наверное, ароматное местное вино или пробовали водку, которую гнали здесь при свете очага долгими бессонными ночами. Город Сантьяго-де-Компостела готовился провести еще одну ночь последних лет XVI столетия под властью короля с нависшим веком, а двое приятелей собирались возобновить прерванную дружбу с помощью задушевной беседы, за которой незаметно пролетают часы.
После дождливого туманного дня наступила чудесная, ясная лунная ночь, позволявшая разглядеть очертания предметов, контуры далеких домов и близких колоколен, равно как и похожие на тени, растворявшиеся в темноте силуэты людей, которые входили и выходили из харчевен или ожидали, стоя у дверей, чтобы им отворили.
Промозглая сырость дня сменилась приятной прохладой, ночной свет спокойно проникал сквозь раскрытые створки окна в комнату, где беседа двух друзей уже приближалась к концу. Спокойствие ночи, размеренная речь Посланца, выжидательное молчание лекаря и сонная поза служанки, которая клевала носом, сидя на табурете в глубине комнаты, упорно не желая идти спать прежде своего хозяина, — все это создавало непринужденную обстановку, располагавшую к доверительности, откровенности, проникновению в самые потаенные уголки души. Будучи хорошо знакомы, они угадывали в пятнах, в которые превращалось в комнате все не освещенное лунным светом, не только лица друг друга, но и выражение лиц, и даже гримасы, кривившие время от времени губы двух собеседников. Иногда в полумраке четко вырисовывалось движение руки, придававшее какому-либо утверждению особую силу и значимость, недостижимые с помощью голоса или тона, намеренно приглушенных, подавленных тишиной ночи и страхом перед отзвуками, вдруг возникающими в неведомых уголках, — днем они обычно стираются или исчезают вовсе. Леон де Кастро донес в Верховный совет Инквизиции на Ариаса Монтано [38], возможно, потому, что тот отказался от епископской митры, предложенной ему королем, а может быть, потому, что королевская Библия, изданная Плантином в Антверпене, представляла собой труд, оказавшийся по плечу только Бенито, а кому же неизвестна низость невежд.
Шан де Рекейшо выслушивал новости доверчиво и жадно, как человек, живущий на краю земли, далекий от интриг и сплетен, оторванный от событий, определяющих ход истории, не причастный к решениям, которые, в числе прочего, оказывали влияние и на дела в его родной, отрезанной от всего мира стране. Тот факт, что Бенито Ариас навлек на себя гнев иезуитов, что его заподозрили в иудаизме, поскольку он привел древнееврейские тексты по рукописям раввинов, казался галисийскому врачевателю таким далеким от его собственных забот и устремлений, намного более простых и насущных, возможно более прозаических и, совершенно определенно, более нужных. То, о чем говорил Посланец, было чуждо Галисии. С приостановкой потока паломников прекратилось и всякое общение с Европой, ведь это был единственный оставшийся свободным путь. Запертая в своем атлантическом тупике, обращенная к морю, теснимая к нему могучими внешними силами, Галисия сохранила язык, связывавший ее с латинской Европой, и душу, которая мягко опускала ее в густой туман божественных океанских глубин, в волшебное лоно тихих дождей и серых морских вод. Море влекло ее на север, а язык — на юг, и когда обрывался путь в Европу, называемый Дорогой Сантьяго, то неизбежно наступал застой, и только морем могло прийти сюда живое дыхание, прилететь по ветру или приплыть на кораблях, но обязательно морем. Шан де Рекейшо слушал Посланца. Какими далекими представлялись ему все эти битвы! Лепанто [39], Сен-Кантен [40], раздел Фландрии и множество других событий казались чем-то совершенно оторванным от реальной жизни. Разве что судьба Хуана де Марианы [41] разбудила в нем некоторое любопытство, но не потому, что он выступил в защиту Бенито, а из-за его книги — ее признали бунтарской и предали огню в Париже, где правил король Франциск, а самого автора трактата «De Rege et Regis Institutione» [42] отдали под суд и приговорили к заключению в монастыре. Вообще Испания мало интересовала Шана де Рекейшо, если вся она сводилась к восьми прелатам и девяти теологам, представлявшим ее на Тридентском соборе и обвиненным Инквизицией; если Инквизиция не оставляла в покое профессоров и писателей, ученых и художников, то лучше молчать и ждать, что принесут новые времена. «Никаких перемен в годину скорби», — советовал Игнасио де Лойола [43], а времена были воистину скорбными для Шана де Рекейшо, который, сам не решаясь менять их, ничего не делал, чтобы помешать изменениям.