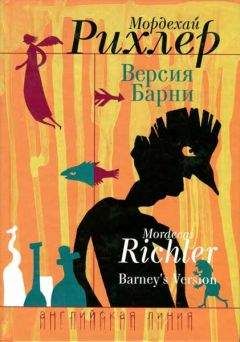— Он говорил мне, что вы умная, — сказал Хайми, — но ни разу не сказал, какая вы красивая!
— Должно быть, он сам этого еще не заметил. Для него красив только тот, кому удастся хет-трик[70] или кто забьет решающий гол в овертайме.
— Зачем же выходить за него, когда вот он я — весь у ваших ног?
— А он что, сказал, что я выхожу за него замуж?
— Я не говорил. Клянусь. Я сказал, я надеюсь, сказал, может быть, ты согласишься…
— Мириам, почему бы нам не пойти куда-нибудь перекусить вдвоем, пока этот нудник будет сидеть у меня за машинкой?
Перекусить? Они исчезли на целых четыре часа, и когда Мириам, сама не своя, в конце концов доплелась до нашей комнаты, язык ее не слушался, так что она еле добралась до постели. Ужин для нас был мной уже заказан в «Капризе», но мне не удалось стащить ее с кровати.
— Сходите с Хайми, — проговорила она, перевернулась на другой бок и снова задрыхла.
— О чем вы с ней болтали так долго? — спрашивал я потом приятеля.
— Да так… О том о сем.
— Ты напоил ее допьяна.
— Ты кушай, кушай, бойчик.
Наконец Мириам улетела назад в Торонто, а наши с Хайми бдения продолжились. Для Хайми адом были не другие люди, как для Камю [На самом деле это сказал Жан-Поль Сартр. — Прим. Майкла Панофски.], а их нехватка. Когда, сославшись на усталость, я уходил из «Слона» или «Мирабели», он перемещался за соседний столик и, компенсируя отсутствие приглашения, укладывал всех наповал анекдотами о тех, чьи имена котируются на рынке. Или присаживался к бару и, если там обнаруживалась одинокая женщина, начинал приставать к ней с разговорами.
— Вы, кстати, знаете, кто я?
Как-то раз дошло до такого, о чем и вспоминать тошно. В «Белый слон» зашел с группой поклонников Бен Шан. Когда-то Хайми приобрел рисунок Шана и теперь решил, что это дает ему право подсесть к чужому столу. Ткнул в Бена Шана пальцем и говорит:
— Когда увидите Клиффа, передайте ему от меня, что он скотина и стукач.
Клифф — естественно, имелся в виду Одетс: он сплоховал перед Комитетом по антиамериканской деятельности и назвал много имен.
Над столом нависла гробовая тишина. Шан невозмутимо сдвинул очки на лоб и, недоуменно вглядываясь в Хайми, спросил:
— А от кого, скажите, я должен ему это передать?
— Ладно, — стушевался Хайми, съежившись, будто из него выпустили воздух. — Не важно, забудем.
Он пошел прочь и в тот миг показался мне старым дурнем, пьяным и совсем сбитым с толку.
Наконец, несколько месяцев спустя, настал день, когда мы с Хайми уселись в просмотровом зале в Беверли-Хиллз и перед нами по экрану побежали титры. Читаю:
ФИЛЬМ СНЯТ ПО РАССКАЗУ БЕРНАРДА МОСКОВИЧА
Меня аж передернуло.
— Гад, сволочь! — заорал я, стаскивая Хайми за шкирку с кресла и что есть силы тряся. — Ты почему не сказал мне, что фильм делается по рассказу Буки?
— Щепетильный ты наш, — придя в себя, сказал он и ущипнул меня за щеку.
— Мало на меня и без того уже свалилось, так теперь все скажут, что я его посмертно эксплуатирую!
— А знаешь, что мне во всем этом деле не нравится? Если он такой добрый друг и при этом жив, почему не пришел к тебе на суд?
В ответ я размахнулся и умудрился в третий раз сломать Хайми его дважды ломанный нос, а у меня, надо сказать, давно чесались руки это сделать — еще с тех пор, как он увел Мириам на тот четырехчасовой перекус. В ответ он двинул меня коленом в пах. Мы продолжали молотить друг друга, стали кататься по полу, и понадобились трое охранников, чтобы разнять нас, но и после этого мы продолжали осыпать друг друга бранью.
Любви в семье Панофски подвластны все. Взять хоть отца моего, к примеру. Инспектор полиции Иззи Панофски отбыл из земной юдоли прямо-таки весь в ней по уши. Тридцать шесть лет назад (сегодня как раз день в день) он умер в монреальском массажном салоне на столе от сердечного приступа после оргазма. Когда я приехал забрать тело, девица-гаитянка, на вид, пожалуй, действительно потрясенная, отвела меня в сторонку. Нет, никаких последних слов отца она мне не передала, зато сообщила, что Иззи преставился, не подписав чека, которым собирался оплатить ее услуги. Как сын и наследник, я заплатил за последний любовный выплеск отца, присовокупив щедрые чаевые и извинившись за неудобства, причиненные заведению.
Сегодня, в годовщину смерти отца, я совершил ежегодное паломничество на кладбище «Хевра Кадиша»[71], где вылил на его могилу бутылку виски «краун роял», а в качестве закуски положил на могильный камень кусок хлеба с копченым мясом средней жирности и соленый огурчик. Был бы наш Бог справедлив — только ведь куда там! — мой отец в небесах нежился бы в самом шикарном борделе с непременным буфетом и баром, оборудованным бронзовыми поручнем и плевательницей и снабженным запасом сигар «белая сова», а также телевизором, настроенным на круглосуточный спортивный канал. Но Бог, с которым мы, евреи, крепко повязаны, жесток и мстителен. На мой взгляд, Иегова был к тому же первым еврейским эстрадным комиком, партнер которого Авраам исполнял при нем роль простака. «Возьми сына твоего, — сказал Господь Аврааму, — единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе». И наш Абрамчик, первый из чересчур таки расплодившегося с тех пор племени евреев-подхалимов, оседлал осла и сделал, как было велено. Устроил жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. «Папочка-а, — взвыл обескураженный Исаак, — вот: вижу жертвенник, вижу дрова, но где же агнец для всесожжения?» В ответ Абрамчик простер руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. В этот момент Иегова, хохоча во всю глотку, послал вниз ангела, который сказал: «Э! Э! Постой-ка, Абрамчик. Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Однако сомневаюсь я, чтобы отношения между Абрамчиком и его сыном Иззи когда-либо вновь стали прежними.
Меня заносит. Знаю. Знаю. Но это мой единственный, мой перворожденный рассказ, и я собираюсь его рассказывать в точности так, как пожелаю. Поэтому вам сейчас придется, сделав небольшой зигзаг, ненадолго заехать на территорию, которую Холден Колфилд уничижительно назвал когда-то дерьмом в стиле Николаса Никльби. Или Оливера Твиста? Нет, Никльби. В этом я уверен. [В действительности Дэвида Копперфилда. См.: Дж. Д. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи», с.1. Литтл, Браун, Бостон, 1951. —Прим. Майкла Панофски.]
Однажды Клара меня спрашивает:
— Как вышло, что твои предки эмигрировали в Канаду, разве нет других мест? Я думала, евреи все ехали в Нью-Йорк.
Я объяснил, что родился канадцем, потому что мой дедушка, ритуальный резник, не придумал, где взять три бумажки — две по десять и одну в пять долларов. На дворе стоял 1902 год, когда новобрачные Мойша и Малка Панофски отправились в Будапешт в «Общество содействия еврейской иммиграции» на собеседование к Семке Деброфски.
— Нам нужны билеты в Нью-Йорк, — сказал мой дедушка.
— Ой, а Сиам вам уже не хорош? В Индию вам не надо? Конечно, я понимаю. Вот, беру трубку, сейчас звоню в Вашингтон. И что я скажу президенту? Я скажу: Тедди, у тебя на Канал-стрит или мало приезжих? Тебе не надо еще больше тех, кто ни бэ ни мэ по-английски? Ну так я тебе помогу! У меня тут стоит пара шлеперов[72], которые таки хотят поселиться в Нью-Йорке. Если это гольдене[73] мечта твоего детства, Панофски, она стоит пятьдесят долларов американских денег, и деньги — вперед!
— Пятьдесят долларов мы не имеем, господин Деброфски.
— Шутите? Так я вам вот что скажу. У меня сегодня день скидок. За двадцать пять долларов я могу вас обоих отправить в Канаду!
Моя мать была не из тех типичных еврейских мамаш, что наизнанку ради сына вывернутся, на любые жертвы пойдут, лишь бы сделать ребенку жизнь чуть получше. Вернувшись из школы, я распахивал дверь и орал:
— Ма! Я пришел.
— Тшшш, — обычно отзывалась она, приложив палец к губам: сидела у приемника, слушала очередной сериал — «Пеппер Янг», «Матушка Перкинс» или «Мужчина в семейном кругу». Только во время рекламной паузы снисходила: — Там ореховая паста есть — в холодильнике. Поешь сам.
Ребята с нашей улицы мне завидовали — еще бы: моей матери до фонаря было и какие отметки у меня в школе, и когда я прихожу вечером домой. Она читала «Фотоплей», «Серебряный экран» и другие журналы для киноманов. Очень беспокоилась, что будет с Ширли Темпл теперь, когда она становится девушкой-подростком; болела за Кларка Гейбла и Джимми Стюарта, чтобы они благополучно вернулись с войны; и чтобы Тайрон Пауэр обрел наконец настоящую любовь. Другие матери с улицы Жанны Манс[74] насильно пичкали сыновей «Охотниками на микробов» Поля де Круи — в надежде, что это побудит детишек заинтересоваться медициной. Или, выкраивая из продуктовых денег, копили на очередной том «Книг знания» — так на Американском континенте называлась британская «Детская энциклопедия» Артура Ми 1910 года издания, — пусть в начале гонки под названием «Жизнь» у ребенка будет хоть какое-то преимущество! Дюнкерк, битва за Британию, Пёрл-Харбор, оборона Сталинграда — все эти события проплывали стороной, как тучки небесные, зато эстрадные ссоры Джека Бенни с Фредом Алленом глубоко ее волновали. Персонажи, которых мы в те времена называли не иначе как клоунами, были для нее куда роднее и реальнее собственного сына. Она писала письма Честеру Гулду[75], в которых требовала, чтобы Дик Трейси непременно женился на Тесс Трухарт. Когда в газетном сериале «Терри и пираты» Рейвен Шерман умерла на руках возлюбленного, Дьюда Хенника, моя мать была в числе тех многих тысяч читателей, кто послал телеграммы соболезнования.