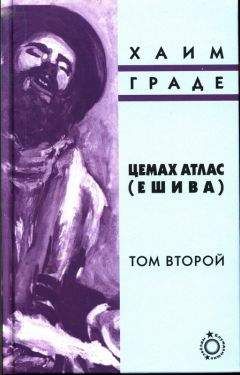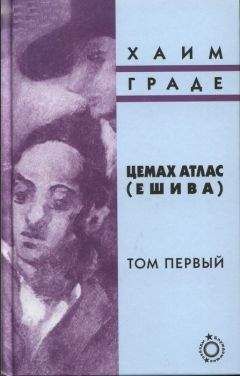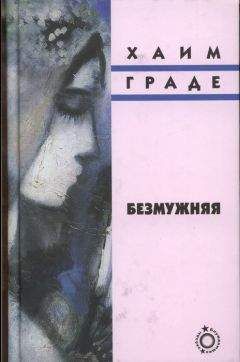— И вы верите, что он продолжит изучать Тору? — спросил гость.
— Наверняка я не знаю. Однако, поскольку его поведение становится лучше ото дня ко дню, нечего думать, что получится из этого потом. Я лично уверен, что, даже если он не останется с Торой, Тора останется с ним и в нем.
Табачник не мог оторвать своего тяжелого, пронзительного взгляда от раввина, говорившего с ним доверительно, как с равным. Если такой еврей с уважением относится к какому-то пареньку с Мясницкой улицы, он, конечно, отнесется с не меньшим уважением и к старому надломленному еврею. Вова Барбитолер поспешно допивал свой чай, ломал пальцами жесткое печенье и с аппетитом хрумкал им, как после долгого поста. Реб Авром-Шая мысленно копался в это время в кухонном шкафу, где стояли холодные блюда: что там еще есть? Однако, поскольку гость сказал, что не голоден, то будет лучше не просить его омывать перед трапезой руки, чтобы он не подумал, что к нему относятся, как к нищему.
— Вы не должны обижать фрукты, — сказал реб Авром-Шая, указывая на яблоки. — Благословите их.
Махазе-Авром сидел, низко согнувшись над столом, и как будто сливался с тенями. Только его высокий золотисто-желтый лоб светился, отражая свет электрической лампочки. Гость тоже сидел укутанный ночной темнотой. Он ножом отрезал кусочки очищенного яблока и жевал их уголком закрытого рта. Это искривляло его лицо в странную гримасу, как будто он сам себя передразнивал перед зеркалом.
— А что вы скажете по поводу местного главы ешивы реб Цемаха Атласа? Вы ведь, наверное, слышали, что он со мной сделал. Разве можно ему было вмешиваться в мою жизнь и отрывать от меня моего сына?
— Ему не только не следовало этого делать, но это было самой большой глупостью с его стороны. Я не понимаю его поведения. Разве что он просто-напросто дикий человек и в своей ярости доходит до глупости. — Реб Авром-Шая сказал то, что думал. Однако при этом он считал, что делает директору ешивы одолжение, осуждая его. Чем больше он будет оправдывать этого обозленного разорившегося обывателя, тем больше будет остывать его ненависть.
— Я думал, что, увидев меня в моем нынешнем убогом положении, он попросит прощения за то, что разрушил мою жизнь. А он вчера ругал меня еще больше, чем прежде. — Вова Барбитолер постучал пальцем по пустому чайному стакану, и его глаза загорелись. — Ну, коли я такой жестокий злодей, как он говорит, то он мне сейчас за все заплатит. Я буду делать так, что ему тут станет тесно, пока он не будет вынужден бежать отсюда.
Реб Авром-Шая слушал, опустив глаза и положив левую руку на лоб. Он тосковал об удовольствии лежать на кровати с книгой в руках и размышлять над спором двух танаев из Мишны. Пусть директор ешивы и этот еврей угробят друг друга, лишь бы не уступить. Реб Авром-Шая чувствовал, что на этот раз не может сказать себе, что не вмешивается в ссору, ибо слаб и болезнен и не хочет впустую тратить время, предназначенное для изучения Торы. На этот раз ему все-таки придется вмешаться, из этой ссоры может получиться ужасное осквернение Имени Божьего. Кроме того, ему теперь еще больше, чем прежде, жаль директора ешивы. Его надо спасать.
— Если вы хотите именно прогнать реб Цемаха из местечка, то у вас это получится, но себя самого вы этим сломаете еще больше, — сказал реб Авром-Шая после долгого молчания.
— Почему это должно еще больше сломать меня? — распахнул свои красноватые от лопнувших кровяных сосудиков глаза Вова.
— Пока вы не добились своего, вы думаете, что месть насытит вас. Однако мстительность — не еврейское качество, и месть только сильнее сломает вас.
Молчание ночного леса просачивалось через темное окно. Желтоватый свет лампы и тени в столовой еще больше углубились и придали оттенок какой-то загадочности шепоту реб Аврома-Шаи. Вова с затаенным страхом смотрел на печального ребе и думал: «Он прав! Если бы я давным-давно, годы назад отослал разводное письмо Конфраде, она бы не приехала из Аргентины, чтобы забрать Герцку. А если бы она все-таки приехала, он бы не уехал с такой враждебностью ко мне».
— В споре, который ведется не ради Царствия Небесного, не бывает настоящего победителя, который получил бы удовольствие от победы, — реб Авром-Шая встал, сутулясь, и сложил ладони. — Из всего, что я о вас слышал, а теперь сам вижу, очевидно, без всякого сомнения, что вы страдалец. Однако и реб Цемах Атлас тоже несчастный человек, несчастный из-за своего характера.
— Он сумасшедший! Я вам уже говорил, что он вчера ругал меня еще худшими словами, чем в Вильне, когда отнимал у меня сына, — Вова тоже медленно встал.
— Он ругал вас потому, что чувствует себя виноватым, — ответил реб Авром-Шая, уставший от этого разговора.
— Тут я, ребе, с вами не согласен. Он как раз считает себя правым, и как бы я себя ни вел, я останусь в его глазах неполноценным человеком, совершившим непростительный грех, — Вова в отчаянии взмахнул тяжелой рукой и направился к выходу.
— Вас не должно интересовать, что он думает. Думайте о себе и своем душевном спокойствии, — сказал реб Авром-Шая, обрадованный тем, что гость уходит.
Они вышли из дома на веранду и натолкнулись на густую темноту, превратившую в единое чернильно-черное пятно и двор, и лес на горе напротив. «В такую темноту нельзя отпускать человека», — подумал реб Авром-Шая и почувствовал колючий пот на своей наполовину лысой голове. Да что они все от него хотят?! Он был адвокатом директора ешивы, защищая его перед валкеникским раввином, его сыном и зятем. И сегодня он целый вечер должен был оправдывать этого человека, жесткого, как железо. Так теперь он еще и должен оставлять у себя на ночь этого мрачного еврея? Однако уже через минуту реб Авром-Шая придерживал гостя за плечо и уговаривал, что в такую тьму египетскую он не найдет дороги в местечко и потому обязательно должен остаться ночевать на даче.
— А? — переспросил Вова Барбитолер приглушенным голосом. — Ведь директор ешивы утверждает, что я нечестивый злодей, жестокий человек, убийца. А вы хотите, чтобы я у вас остался ночевать?
— Человек не может свидетельствовать против самого себя и называть себя нечестивцем, — рассмеялся реб Авром-Шая, а его лицо пылало в непроницаемой темноте от стыда, что он на мгновение рассердился из-за того, что гость должен будет у него заночевать.
Попрошайка стоял посреди комнаты реб Аврома-Шаи, задрав голову, и прислушивался к собственным мыслям, как к голосам, занесенным из ночных далей. Из-за настольной лампы на него смотрел Хайкл, не зная, куда положить спать отца Герцке. В комнате только две кровати. Собственно, почему он должен здесь спать? Чем он так понравился ребе? Однако Вова Барбитолер не разговаривал с Хайклом и не смотрел на него.
Реб Авром-Шая зашел к сестре за постельным бельем и вернулся нагруженный подушкой, одеялом и простыней. Он взглянул на ученика и строго спросил, почему тот еще не забрал с постели свое белье. С гостем он говорил мягко, просил прощения за то, что ему будет неудобно спать. Гость молчал и все еще стоял посреди комнаты удивленный, глядя через открытое окно в темноту. Хайкл постелил себе на длинной скамье. Реб Авром-Шая оттолкнул его и сам постелил гостю. Будучи непривычен к такой работе, он устал.
— Я плохая хозяйка, — рассмеялся он и сказал гостю, что тот может раздеваться. Если ему надо выйти во двор, то Хайкл покажет дорогу. Вова снова ничего не ответил и присел на краешек кровати с таким видом, словно размышлял, происходит ли это наяву.
Реб Авром-Шая, который изучал Тору всегда, в том числе и в постели, и обычно засыпал одетым, на этот раз разделся и залез под покрывало, что делал обыкновенно только в пятницу вечером и по праздникам. Хайкл понял, что ребе не хочет мешать гостю и что он должен поступить так же. Но на него именно сейчас напало дикое желание не прерывать изучение Торы, и он продолжал молча раскачиваться над томом Геморы.
— Погаси лампу и ложись спать, — прикрикнул реб Авром-Шая.
Хайкл изо всей силы подул на керосиновую лампу, скрывая свою злость. Он разделся в темноте и растянулся на жесткой узкой скамье. Если бы ему пораньше сказали, что ему придется спать без тюфяка, он бы ушел в местечко. Ему было очень неприятно от того, что отец Герцки слышал, как ребе кричит на него, и он был готов даже посреди ночи убежать в лес. Он поднял голову с подушки и прислушался, навострив уши, уверенный, что ни гость, ни ребе не спят. Вова Барбитолер закашлялся, а потом мягко и влажно почмокал губами, как будто во рту у него не было ни единого зуба. После этого он глубоко вздохнул и остался лежать без движения. Хайкл долго не мог заснуть. Ему казалось, что от молчания Вовы Барбитолера воздух в комнате стал таким густым, что можно было задохнуться.
Каждое утро реб Авром-Шая молился громко, вслух; на этот раз он читал молитву про себя, чтобы не разбудить гостя. Когда Хайкл проснулся, Махазе-Аврома не было в комнате, он сократил молитву, чтобы одолжить гостю свои талес и филактерии. Вова Барбитолер медленно шевелил губами, явно продолжая думать свои потаенные ночные думы. Сразу же после того, как он закончил молитву «Шмоне эсре», вошел Махазе-Авром и пригласил завтракать.