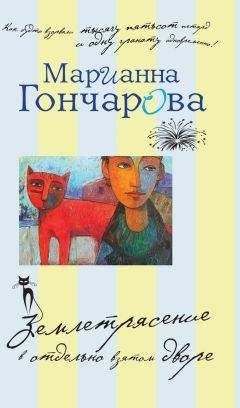А в корзинку, чтобы нести в храм святить, что только не кладут. Не только привычный пасхальный продуктовый набор, но цитрусовые, и даже гигантский ананас иногда гордо-высокомерно торчит хвостом из чьей-то корзины, и под белоснежным рушныком с яркой ручной вышивкой, с мережками и нежной пушистой бахромой, под крашенками, пысанками, домашними колбасами, шинкой (ветчиной) и ванильной ярко-желтой легкой «паской» с изюмом (то, что в России называют кулич, но не сравнить — я вам говорю!), там, сбоку, конфузливо прячется маленькая чекушечка. А что ж… Оно ведь и понятно, и простительно. Пасха.
* * *
Для кого-то Пасха — главный религиозный праздник. Для кого-то просто начало весны. А для Василики…
Ну, по порядку.
Есть тут у нас один парень — Василика Урсулика. Прямо песенка, а не имя-фамилия. Он такой миниатюрный, сбитый и похож на актера Евгения Миронова. Но смуглый, черноволосый, молдаванин, не артист, работает водителем на мусороуборочной машине. Большой и оранжевой.
Василика — ласкательное имя, это как у нас Василек. А Урсулика — фамилия Василька, это ласкательное от слова «урсу» — медведь. Значит, если по-русски, то его зовут Василек-Медвежонок. Ни разу не встречала человека, которому так подходили имя и фамилия. А вот еще был знакомый один, консулом где-то в Румынии работал — такой коренастый и крепкий, как белый гриб. И звали его Алчип. Не знаю, что означает это имя, он выглядел именно как Алчип. Ну чистый Алчип, и все.
Так Василика-Медвежонок.
Ему было семнадцать. И он влюбился. А кто не влюблялся в это время, в семнадцать лет. Девочка была тоже маленькая, тоненькая, миниатюрная, тихая, ей было пятнадцать, и у нее было пять старших братьев. Такое сочетание цифр, ну страшное — пятнадцать и пять.
Василику Урсулику сначала эти пятеро просто так гоняли, плохими словами. А потом и отлупили. И не раз. Сказали: уйди, заройся, мусоровозка, чтоб ноги твоей здесь не было, еще раз попадешься — капец медвежонку! А он, значит, приходил с работы, мылся в корыте так тщательно, аж скрипел весь при ходьбе, надевал все чистое, причесывался на пробор мокрым гребешком, душился одеколоном «Саша» и шел ныть под Анин забор.
— А-а-а-а-а-ань, А-а-а-ань… — негромко звал Василика-Медвежонок. И выходил кто-то из Аниных братьев, и Василика давал стрекача, чтоб не получить по башке. И так каждый божий вечер. И солью в него стреляли, и засады делали, но Василика был юркий, крепенький, настырный, а главное, сильно-пресильно влюбленный.
И однажды (ну чисто как в кино про позапрошлый век) Василика выследил Аню рано-рано утром и пошел за ней в церковь. Она ступала такая нежная, трепетная, нарядная, в платочке, коса длинная. Аня. С корзинкой — была Пасха. Пасха была, да. И Василика к ней сквозь толпу тихонько прокрался, постоял, потоптался за ее спиной, а вокруг народ, и священники, и певчие, ночь звездная, от свечей вокруг оранжево, празднично. А он ей ласково на ушко: «Ааань… Это… Э…»
Аня смутилась, разулыбалась. Вооот.
Ну и с того времени, с пасхальной той всенощной, стала тайком бегать к нему на свидания.
А когда Ане исполнилось восемнадцать, Василика Урсулика подогнал к Аниному дому двух коней под седлами — это было всего лишь тринадцать лет тому назад, тоже на Пасху, — и украл Аню. И в монастыре их обвенчали. Ну а братья сначала, когда пропажу обнаружили, ну прямо как горцы какие-то, погнались в своей «копейке» за сестрой, туда-сюда, не нашли, осерчали сильно, передавали через знакомых, что Василику прибьют совсем и в его же мусоровозку выкинут — кровожадные, ну. А потом, когда родился мальчик Ванечка Урсулика, успокоились. А что, сестре ведь хорошо. Они же, братья ее, не совсем же дураки. Так только, чуть-чуть.
Почему я все это пишу. Этой зимой в лютый мороз на окраине города увидела такую картину — около ярко-желтого минивэна мужчина, женщина, два мальчика, а вокруг них огромная стая собак. Сначала я испугалась, что собаки на людей напали. Потом подъехала поближе и поняла, что эти люди привезли собакам еду. И раскладывали ее в одноразовые тарелки. Всем. И котам тоже давали.
Медвежата это были, Урсулики. Всей семьей.
Ну вот, я вспомнила это все, потому что весна и скоро Пасха. Для кого-то это самый важный религиозный праздник, для кого-то просто начало весны, а для Урсулики — Василька-Медвежонка — и семьи его годовщина начала другой, новой и счастливой жизни.
Телефон у меня в Черновцах звонит очень часто. Но семь звонков из десяти — от Севы В. Причем он постоянно кем-то прикидывается. То Фаиной Марковной Мариенгофф: несет какой-то бред про патиссоны и маринад. То фирмой «Заря»: требует оплатить торт с лебедем диаметром метр двадцать сантиметров, то глубоким, бархатным, проникновенным голосом вызывает в прокуратуру…
Поэтому, когда я слышу незнакомый голос, на всякий случай всегда говорю: «Севка, я тебя узнала, ты меня не проведешь!»
Но когда в этот раз у меня зазвонил телефон, Сева не прикидывался, он был непривычно печален.
— Не спи, вставай, кудрявая! — говорит. — Представляешь, — говорит, — а у нас в городе прямо с утра — день!
— То есть? — спрашиваю. — Как это — день… утром?
— То есть День города, — грустно объясняет Сева.
— Какого? — спрашиваю я.
— Что «какого»? — вслед за мной прикидывается непонятливым Севка.
— День какого города утром у вас в городе, Сева? — Я теряю терпение.
— День нашего города Донецка в нашем городе Донецке, дура, — терпеливо и ласково отвечает Сева.
— Ну и?…
— Что «ну и»?
— И что там?
— Там? — Сева, печально: — Весело. Пиво пьют. Песни поют. Про Донбасс.
— А ты почему утром не в городе на Дне города? Ты что, песен про Донбасс не знаешь?
— Почему не знаю? Знаю.
— Спой.
— Как? Прямо сейчас?
— Почему нет?
— Уже?
— А когда?
— В телефон?
— Почему нет?
— Про что?
— Про Донбасс! Про Донбасс!!!
— Ага… Щас…
Сева затих.
— Але?
— Щас-щас…
Тихо.
— Але?! Але?!
— Ну щас, щас!!! Кх-кх! Кх! Кх! — И торжественно объявляет: — Музыка Богословского, стихи Николая Доризо… — И начинает робко, на какой-то непонятный мотивчик: — «Давно не бывал я…» Нет. Щас-щас. Значит, музыка Богословского…
— Стихи Доризо! Знаю-знаю. Давай, пой!
— «Давно не бывал я…» Ой, мотив не помню. Щас. «Давно не бывал я…» Ну, не помню я мотив! Ну что уже теперь мне?! Ну не помню я! Не помню!
— Н-да… Видно, и правда тебе не место этим утром на Дне города Донецка в вашем городе Донецке, раз ты такую песню не знаешь! — хихикаю я.
— Можно подумать, ты хоть одну песню о своем городе знаешь…
— Чтэ-э-э-э?! — взвыла я возмущенно. — Да я знаешь сколько песен знаю?! И «Гуцулку Ксэню», и «Маричку», и «Дай ня, мамцю, дай ня…» Хочешь, спою? Хочешь?! — И, не дожидаясь его согласия, я торопливо заголосила:
Коломыя — не помыя,
Коломыя — мисто.
В Коломыи дивчаточка
Як грэчанэ тисто!..
И вот эту знаю:
У Карпатах снигы впалы,
Робит, тато, саны,
Выдавайтэ мэнэ замиж
За мого Ивана.
И вот эту еще (ох и разошлась же я!):
Вьеться наче стричка
Нэпокирна ричка,
Тулыться блызэнько
До пиднижжя гир.
А на тому боци
Там жывэ Маричка…
Я пела и пела, чтоб доказать. Я пела все громче и даже стала притоптывать, пританцовывать и отбивать свободной рукой ритм по столу. И Севка обиженно бросил трубку.
А в это время (как потом выяснилось) все Севкины домашние — мама, папа, брат, жена брата, дети брата, Севкина подруга — уже давно оторвались от своих дел и прислушивались к нашему с Севкой телефонному разговору, неодобрительно покачивая головами.
— Как ты мог?! — гневно спрашивает Севина мама, вытирая влажные руки кухонным полотенцем.
— Как ты мог?! — вторит Севин папа.
— Ты же живешь в этом городе… — Это Севина мама.
— …И ты не помнишь нашей народной национальной песни «Давно не бывал я в Донбассе» на музыку Богословского, стихи Доризо?! — негодует Севин папа.
— Тебе звонит эта! Из Черновиц! Эта! С Западной Украины… — Севина мама неопределенно помахивает полотенцем в ту сторону, где, по ее мнению, должны находиться город Черновцы и я. — …И ты даже не можешь дать достойный отпор этой… этой… этой…
— Этой бандеровке! — подхватывает знамя Севкин папа. — Этой западэнке! — Севин папа возмущенно пожимает плечами и обреченно машет рукой, наконец осознав, что в Севином патриотическом воспитании есть невосполнимые пробелы.
— …И ты не можешь дать отпор, — голос мамы крепнет, — и хоть немного в кои веки похвалиться своим краем! Нет, ты — не патриот! — выносит она вердикт. — Ты — ничтожный космополит!