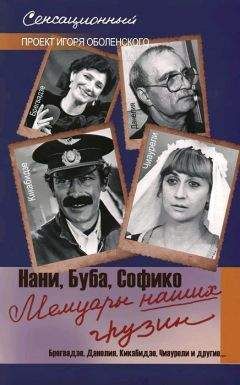– Вот видите, Оганес Эдуардович, до чего меня довели простым катетером? – улыбается он. Говорит с трудом, уже началась одышка. Крови мало, транспорт кислорода падает, мозг получает приказ дышать чаще...
Я стою и понимаю, что на моих глазах умирает человек. Умирает с улыбкой, он смирился с этой мыслью... Но ему все равно чертовски хочется жить...
– Скажите, пусть мне снотворный укол сделают, – просит он, – а то до утра не засну...
«Милый, ты до утра не...» – Хорошо, что мысль остается невысказанной.
Сейчас, вот сейчас начнут пищать датчики. Начнут закрываться глаза... Будет белесая плёнка на них, будут хрипы... Датчики начнут сходить с ума. Потом остановится сердце и загорится жёлто-красная лампа с противным, переходящим в чуть слышный ультразвук воем... Сейчас, сейчас... Анестезиолог толкнет меня, для порядку пару раз долбанёт током, потом пойдёт покурить. И откроется счёт моего собственного, личного кладбища. Ведь он после моей операции закровил...
Анестезиолог толкает:
– Диланян, гемоглобин держится.
– Сколько?
– Семьдесят. Уже час.
Но мне же запретили хоть как-то трогать его...
– Оперблок! Готовьтесь, ревизия мочевого пузыря!
– Через полчаса, – равнодушно зевает медсестра.
– Я через пять минут начну делать операцию на каталке.
– Поняла...
Ревизия мочевого пузыря. Разрез, открывается пузырь. Ни одной крупной ветки... Моя цистостома наложена правильно, классически, ход её прямой... Диффузно кровит стенка мочевого пузыря рядом с точкой прохождения троакара...
Грубый, очень грубый шов. Остановить, во что бы то ни стало! Иначе... Иначе он умрет.
Останавливаю. Сверху в пузырь ввожу еще одну, гораздо более толстую трубку. Контролирую кровотечение. Выхожу сухим настолько, насколько не выходил из плановых операций.
– Эй, что ты там сделал? – Анестезиолог шокированно смотрит на меня.
– Что такое?
– Гемоглобин растёт! Через полчаса после того, как ты закончил!
– Ну, льёте же кровь?
– Да хрен с гемоглобином! ДВС прекратился!
– Так быстро?
– Ага...
Сон. Несмотря на усталость – беспокойный и поверхностный больничный сон.
Утро, конференция.
– ...Известного конференции пациента ночью экстренно прооперировали, произвели ревизию мочевого пузыря, ушили стенки, остановили кровотечение. К утру состояние тяжёлое, с положительной динамикой крови. ДВС прекратился.
В зале наступает гробовая тишина.
– Кто прооперировал? – тихо, как бы нехотя, роняет слова Лаффиуллин.
– Диланян.
– Сделал-таки, – хмыкает Клирашев.
Я обречённо жду расстрела.
– Молодец. А теперь встал и пошел на хрен отсюда. Через час я позвоню тебе домой. Чтоб сам взял трубку.
Я улыбаюсь. В конференц-зале – смешки.
– Чего сидишь? Пошел на хрен отсюда, тебе сказали...
С Клирашевым шутить нельзя. Расстреляет... Я встаю и... Домой... Дома хорошо...
Я тебя сегодня выписал, острая задержка. Я выписал тебя, как мы пишем, «с улучшением». После всей эпопеи я тебя стабилизировал и выписал. Ты ходишь сам, хоть и с двумя мешками. Онкологи говорят, что пойдут на вторую лучевую. Что будут продолжать твою терапию. А они так говорят, только если видят, что ты проживёшь ещё хотя бы полгода.
Ты не умер от моей руки. Я тебя выписал...
Виктория Нани
Другие будни
Социальные работники бывают разные...
Лично я не ношу старикам по два килограмма еды на дом. Не занимаюсь психотерапией. Не отбираю детей у нерадивых родителей. Я не веду душеспасительные беседы с малолетними преступниками. Не организовываю группы поддержки для матерей-одиночек. Я занимаюсь реабилитацией.
Хорошее такое слово, длинное. С ним можно играть, пытаясь составить из него очень много коротких.
Рация.
Литера.
Билет.
Как помочь человеку, больному шизофренией, вернуться после длительной госпитализации в общество и не поехать еще раз мозгами от самого процесса? Как удержать его на этом зыбком островке послебольничной нормальности?
Формула достаточно проста и давно известна. Лекарства плюс крыша над головой плюс подходящая работа минус наркотики минус алкоголь плюс психологическая поддержка.
Я социальный работник. Моя работа – оказывать душевнобольным людям психологическую и социальную поддержку. Но иногда мне кажется, что мои клиенты способны на это много лучше меня...
14 сентября. Начало
Пришёл клиент.
Сел.
Встал.
Ещё раз сел.
Встал снова.
Пробежался к окну, посмотрел на улицу, бегом к креслу – сел.
Сидит.
Вдруг завертел головой, зашипел, зарычал.
– Вики, – говорит, – я плохо себя чувствую. Мне, наверное, нужно в больницу.
И снова забегал по комнате.
Успокаивала разными способами. Уговаривала всячески. Уже собиралась позвонить его психиатру.
А он все бегает по комнате и твердит, что ему госпитализироваться нужно.
– М., – говорю ему я, – вы хотите, чтоб и меня сейчас в психушку забрали? Если вы хоть на минуточку не замрёте, я своими ногами в лечебницу уйду.
Уселся, смеялся минут пять, успокоился совершенно.
По-моему, работает...
20 сентября. Супчик
Первая неделя работы. Совершила «самоотверженный» поступок с неожиданно обрадовавшими результатами.
Пришла навестить свою подопечную, славную пожилую и очень больную женщину, живущую в доме для душевнобольных, который я курировала. Оказалось, она уже два дня ничего не ест, потому что уверена: соседка (тоже моя клиентка), которая обычно готовит еду для всех жильцов, пытается её отравить.
Сидит эта совершенно чудная старушка, а перед ней тарелка борща. И не ест. Второй день не ест. Плачет почти, голодная, но к еде не притрагивается.
– Вы, – говорит, – Викочка, посмотрите, что в этом борще плавает. Она меня отравит. Не могу я это есть.
Я посмотрела. В борще плавала капуста и другие овощи.
Спросила, можно ли мне попробовать её борщ.
Р. с ужасом в глазах согласилась.
Я взяла ложку, зачерпнула погуще и с выражением полного кайфа на лице борщ этот попробовала.
А потом ещё немножко с ней постояла и пошла дальше.
Сегодня выяснилось, что она снова стала есть. Сказала девочке-инструктору, что, если Вики ест стряпню её соседки – нет никакого смысла подозревать последнюю в попытках отравления. Если, говорит, социальные работники едят и выживают, то нам, психам, бояться нечего...
2 октября. Гусеница
Сидела сегодня с двумя своими клиентами в садике около их хостеля.
Они на скамеечке, а я на маленькой табуретке – напротив.
Очень мирно так сидим, за жизнь общаемся.
Тут смотрю – по дорожке гусеница ползёт. Никогда такой не видела: толстенькая, нежно-зелёная в маленькую жёлтую крапочку, а вдоль спинки – серебряные точки. И глазищи такие солидные! Чёрные, с жёлтым же кружком внутри.
С одной стороны – я, как всякая приличная женщина, боюсь этих гусениц. Я всего, что ползает, боюсь. Я уже не говорю о том, что пресмыкается!
С другой – красота такая, что просто невозможно не восхищаться.
Сижу, стало быть, восхищаюсь вслух. Надо же, говорю, чего только мать-природа не изобретёт. Хотя выглядит, говорю, совершенно не по-земному. Просто не гусеница, а инопланетянин какой-то.
Один клиент покивал, а второй усмехнулся и говорит:
– Нельзя тебе, Вики, с душевнобольными долго работать... Вот уже и инопланетяне мерещатся.
14 октября. На кухне
Давай тут посидим. Здесь тихо. Хочешь кофе? Ры-ры-ры... А, ты же чай пьёшь всегда... Я тебе налью. Почему я плакал? Я тебе расскажу. На, держи. Она была артисткой. А я в тюрьме сидел. За что? Ры-ры-ры... За вымогательство. Мы с младшим братом у бакалейщика деньги отнять пытались. И помяли его немножко за прилавком. Под прилавком. А тут полицейский как раз... Ну, нас и посадили. Сидел год. А она приехала спектакль показывать. Про девочку из неблагополучной семьи. Одна на сцене была. Рыры-ры... Открой окно, пожалуйста. В шортиках коротеньких и в футболке драной. Глаза запуганные, зелёные. А сама вся тонкая такая, что, кажется, дотронься – лопнет, как мыльный пузырь. Я в первом ряду сидел. Мне тогда восемнадцать было. И смотрел на неё, как на диво дивное. Рыры-ры... А потом меня выпустили, и я поселился у двоюродного брата в Тель-Авиве. Брат работал на пляже, продавал мороженое... У тебя есть сигарета? Ры-ры-ры... А я на пляж не ходил. Там все смотрят и в море раствориться можно, столько соли. Я в театр ходить начал. Посмотрел, в каких она спектаклях играет, и ходил. Почти каждый вечер. На всё. Слышишь, как лает? Это у соседей новый котёнок. Она на него со вчерашнего дня лает. Так и жил. Днём спал, вечером ходил в театр. А потом стоял у выхода и ждал её. Но не близко. Ры-ры-ры... Боялся, что она меня испугается. У меня тогда борода была ещё длиннее, чем сейчас. Нет, бывает. Не спорь. Бывает. Под деревом стоял и ждал. Нет, не разговаривал никогда. Я тоже её боялся. Я дотронусь, а она лопнет. Или закричит. И тогда я решил, что я ей позвоню. Номер взял у одного парня, который у них реквизитом заведовал. Я ему диск виниловый подарил. Ры-ры-ры... Два дня думал, что скажу. Позвонил, а она сразу трубку взяла. Я представился и спросил, знает ли она меня. Она засмеялась и ответила, чтоб я не разыгрывал её и поднимался поскорее. Я молчал. Ры-ры-ры... Сказал, что она меня с кем-то спутала. Она трубку бросила. А у меня были всякие мысли о ней. Нет, не эротические. Я никогда с женщиной не спал в жизни. Мне этого не нужно. Ры-ры-ры... У меня были мысли о том, что она со мной разговаривает. Целыми днями. Говорит, чтоб я не брился, чтоб курил гашиш, чтоб не убирал, а то она заболеет. Или умр... Ры-ры-ры... Рыры-ры... Я не брился. Я только после последней госпитализации чуть-чуть бороду подстриг. А после того разговора у меня были мысли страшные. Она приходила в мои мысли и говорила: «Прыгай!» И я прыгал. Со стула, потом – со стола. Как-то раз спрыгнул с автобуса. После этого меня забрали в психушку. Брат пошёл в полицию и сказал, что у меня с головой что-то не так. Ры-ры-ры... Теперь я знаю, что это шизофрения. На самом деле, она обо мне даже не знает. А я её любил. С того дня, когда увидел в клубе в тюрьме. Шортики коротенькие, футболка с высунутым языком на ней и глаза зелёные и испуганные... Ры-ры-ры... Рыжая.