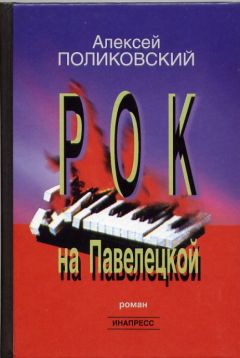В этом был весь Мираж. Он верил в самые невозможные вещи, он их придумывал и потом верил в них. Для него не было разницы, где происходит событие – в реальности или у него в мозгу. В этом смысле он был как ребенок. Он мог прийти на репетицию и битый час рассказывать какую-то ерунду, о том, как он куда-то пошел, и там ему встретился крутой мэн и две клевые герлы, и они спросили у него, поедет ли он с ними, а он ответил, что поедет, и они сели в автобус, и вторая герла, та, что в джинсах с вышитым на колене цветочком, целовалась с ним, а потом они сошли и там было такое кафе, с такими столиками, и за столиками сидели мужики в шляпах и расшитых рубашках и пили пиво Miller… Тут у слушателя начинали возникать подозрения, потому что в ту пору и Жигулевское-то не всегда в ларьке найдешь, и он спрашивал: Мираж, слушай, а где все это было? – В Нэшвилле. – А, ну понятно тогда, если в Нэшвилле. Давай репетировать! Потом, в конце, он уже не был склонен к длинным рассказам, да и мерещились ему, видимо, уже другие вещи, такие, которые пересказать трудно.
Мы начали репетировать втроем, а О’Кей появился чуть позже. Без баса было нельзя, нам тяжести не хватало в звуке. Но его не я привел, а Роки. Откуда-то он его знал. У Роки были самые странные знакомства. И многочисленные. Он был ужасно общительный, у него были знакомые продавщицы, которые отпускали ему портвейн в долг, знакомые таксисты, которые его бесплатно возили к его подругам, а ещё он знал одного шофера, который возил замминистра. Они бухали с шофером на детской площадке на Тверском бульваре, и шофер рассказывал ему, как идут дела в советской экономике. Это он знал от своего министра. Поэтому в разговорах Роки иногда проявлял удивительную для такого балбеса осведомленность о положении дел в черной металлургии и нефтедобыче… Однажды Роки привел на репетицию тщедушного мужичка в кепке, и оказалось, что мужичок вор в законе, отсидевший из сорока двух лет своей жизни двадцать три. Наша музыка мужичку понравилась, он сказал, что ничего подобного никогда не слышал, выпил с нами портвейна с колбаской и пообещал, что если кому-то из нас случится попасть на зону, то он всегда будет рад встретиться. Он собирался сесть в очередной раз, за день до этого, что ли, захотел ночью курить, не нашел в кармане сигарет и гробанул табачный ларек. В конце вечера он был уже совсем пьяный и требовал, чтобы мы уважительно относились к его кожаным перчаткам. Но это я так, к слову.
Сначала мы репетировали в актовом зале школы на Соколе, но потом нас оттуда выгнали, потому что мы своим внешним видом плохо действовали на учащихся, и мы перебрались в красный уголок фабрики «Дукат». Это уже О’Кей организовал. Красный уголок был под землей, это было бомбоубежище с трехметровыми бетонными стенами. Очень хорошее место – никому мы там не мешали, и никто нас там не трогал, кроме ответственного за гражданскую оборону, отставного майора, который приходил нас проверять и которому мы выставляли выпивку, а он нам тогда рассказывал, как в сорок втором на фронте спасся от мины только потому, что поверх ушанки всегда носил каску. Остальные не носили касок поверх ушанок, это неудобно, и их убило. А его только ранило. Это я тоже так, к слову, о пользе ношения касок поверх ушанок. Мы там порепетировали пару месяцев и решили дать концерт. Идею квартирников мы сразу отвергли – в акустике мы не играли, чтобы продемонстрировать себя во всей красе, нам нужен был полноценный электрический звук. И стали искать, напрягли френдов и в конце концов нашли – открытая эстрада-ракушка в поселке Красноармейском, огороженная сеткой площадка, наряд милиции, местные уркаганы со своими подругами. Хлопцы все были с широкими армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, они утежеляли пряжки, припаивая к ним с внутренней стороны куски свинца – ясно зачем. Мы привезли аппаратуру на двух такси и сами таскали её на сцену. Потом настраивались полчаса, публика начала закипать, и мы тогда врубили тяжелую психоделию ватт на сто. Там такие танцы начались…
У нас на концертах – а мы их дали немного, всего ничего, мы халтурой не занимались и за деньгами не гнались никогда – всегда был дурдом, и это не метафора, а факт. Мы были самая ненормальная группа в мире. Серьезно, к нам много раз подходили люди и говорили, что они на наших концертах сходили с ума, – Магишен взглянул мне в глаза. Это у него была привычка такая: раз от разу смотреть собеседнику в глаза, как будто проверяя реакцию и устанавливая контакт. Я ответил ему серьезным взглядом, который сигнализировал: говори, я здесь. – Испытывали самое настоящее умопомешательство. Я им верю. Там было, с чего сойти с ума. Я сам иногда слетал с катушек полностью, а я, вообще-то, уравновешенный человек. Он подтвердил это, тщательно набирая в ложку зерна кукурузы. – Например, мы играли Пикник на обочине, вещь минут на восемь, там шестнадцать раз подряд повторяется одна музыкальная фраза, как в Болеро Равеля или как у Uriah Heep в JulyMorning, повторяется неустанно, с нарастающим давлением на мозги. Тяжелая мрачная тема, однообразный бас, внезапный орган – и из басовой тьмы и органных размышлений то и дело молнией вырывалась гитара Миража. Этот учитель Блэкмора играл очень быстро, со страшной скоростью. К концу, к седьмой минуте, он уже сам от своих соло доходил до такого экстаза, что начинал дергаться, как будто это не гитара, а он подключен к розетке, у него глазах выступали слезы, на лбу пот, нижнюю губу он прикусывал, как от боли, а кистью правой руки делал такие медленные вращательные движения… Гитара впадала в истерику – выла, пела, царапалась, стонала, рыдала… Он медиатором вытворял ужасные вещи, орудовал им, как бритвой. Чуть ли не калечил её, бедную. Садист был.
– Ходили слухи, что он был не в себе. В клиническом смысле. В Кащенке лежал…
– Возможно, – он спокойно пожал плечами. – Какая разница? Мы тогда все были не в себе. Люди, которые в себе, такую музыку не играют.
– Блюз, – сказал Магишен некоторое время спустя, посасывая дольку помидора, с нарастающим туманом в глазах. – Да, блюз, по названию Огонь желаний, тягучий, медленный блюз, им гордились бы черные в Алабаме. Старые негры с седой щетиной на дряблой коже им бы гордились, уверяю тебя, ей Богу, это так… Под этот блюз в зале всегда происходило черте что, мы знали – как только заиграем его, так в зале сразу начнут раздеваться. Эту вещь можно было крутить депрессивным шведам для увеличения рождаемости… Это был уже другой концерт, в ДК МАИ. Я стоял за органом и глазел на дебош – у меня хватило ума не лезть в бордель со своим Бахом – и чувствовал, что мы поднимаемся ввысь, что мы high, что мы всемогущи как боги и Джанис Джоплин… Это потрясающее чувство. Мы играли этот блюз в тот раз, наверное, минут двадцать, и за это время в зале уже дошли до экстаза, до надутых в виде воздушных шариков презервативов, до распущенных волос и поцелуев в засос по углам. Секс и рок-н-ролл тут были полной мерой, а drugs, конечно, отсутствовали, хотя я предполагаю, что несколько гекалитров портвейна ребятами было выпито на подходах к ДК. Я видел со сцены, сверху, как они приникают друг к другу и не могут оторваться, видел эти одуряющие, глубокие, сумасшедшие поцелуи, когда в груди вдруг иссякает воздух, и в мозгу меркнет свет, но оторваться невозможно все равно, и остается идти на дно. Там начиналось что-то вроде оргии, я думаю. Мы успели сыграть всего две вещи и ими довели пипл до экстаза. Если бы нам дали сыграть третью вещь, то начался бы секс по полной программе, оральный, анальный, какой там ещё бывает… Но нам сыграть не дали, вырубили электричество. Я знал, что так будет, и все остальные тоже знали, и поэтому мы никогда не раскачивались и с самого начала врубались по полной. Нам вечно что-то выключали, менты выбегали на сцену и крутили мне руки за спину, дружинники нападали на Роки и отнимали у него его шляпу, администрация возникала с претензиями…
Это был в тот вечер у авиаторов очень большой кайф, просто полный улет, – сказал он с откровенной иронией, возвращаясь к самому себе, каким был теперь. – Девушки у сцены снимали блузки, крутили их над головами, танцевали в лифчиках. Жалко, что никто этого не снимал, был бы клевый фильм. Они тянули руки к Миражу, молили его снизойти, повернуться к ним, показать личико, а он неумолимо стоял к ним спиной. Он был непробиваем. Он говорил, что когда он играет, у него за спиной вырастает стена в три метра высотой. Он был король. Правда, когда на сцене началась потасовка с дружинниками, он спрятался под пианино. Роки любил помахаться, а Мираж совсем не любил. Физический контакт с людьми вызывал у него отвращение. Там на краю сцены стояло пианино, я на него посматривал и подумывал, не раскурочить ли мне его, в память о моих долгих страданиях на уроках сольфеджио. Вскочить на крышку, станцевать джигу… Мираж забрался под него и сидел там в обнимку с гитарой и со страдальчески закрытыми глазами. Роки потом его оттуда достал и вывел из зала.