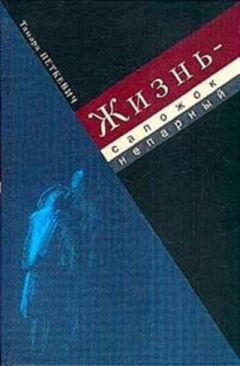Приближалась летняя сессия, и уже пришел вызов на нее, заверенный гербовой печатью института. Марья Гавриловна колебалась, предъявлять его директору школы для оформления и оплаты или воздержаться от этого, что было бы гораздо благоразумней. Зимой в областной город она поехала за свой счет — взяла отпуск без содержания. А теперь ее грызли сомнения. Жена директора школы тоже была словесницей, имела тяжелый, будто свинец, склочный характер и работала на двух ставках — полторы основных и еще полставочки по совместительству, в консультационном пункте заочной средней школы при отделении железной дороги, который недавно организовали на станции. И ездить туда не ленилась — зимой на автобусе, а летом — на мужнином «Запорожце». Будто там своих учителей нет! Как бы муж и жена не подумали, что она, Марья Гавриловна, чему-то завидует, на что-то претендует… Проблема! И, переложив с места на место черненькую «Античную литературу», Марья Гавриловна — у кого что болит — спросила:
— Наташа, ты учишься?
— Н-нет… пока! — зарделась та. — Я на заводе сейчас, вы же знаете. И, Марья Гавриловна, у меня сын.
— Все равно, — Марья Гавриловна покачала головой. — Тебе обязательно нужно учиться. Какие сочинения ты писала!.. «Образ Катерины», я помню. Ты молода, а учеба так расширяет горизонты! В наш век нельзя оставаться неграмотной…
«Неграмотной? Почему? У меня же десятилетка!» — хотела было воскликнуть Наташа, но Марья Гавриловна, не позволив перебить себя, с жаром продолжила:
— Тебе придется воспитывать ребенка, а как ты будешь формировать его мировоззрение?
«Мировоззрение!.. — горько подумала Наташа. — Непонятно, как мы со Звездочкой моим будем дальше жить, на что, где, а она мне про мировоззрение! Ничего-то она не понимает. И все они… Мама вот ни одной книжки на моей памяти не прочла, только численники и газеты с телепрограммой на неделю, да еще «Работницу» однажды выписала — на полгода. «Крестьянку» не захотела что-то… А тут все они одинаковы, тут похожи…»
Наташа раскрыла первую попавшуюся из книг, которые лежали на столе. Книга оказалась старой, изданной задолго до войны: Гесиод, «Труды и дни», перевод с древнегреческого. В ней торчала закладка, сложенная из чайной обертки — из фольги. Значит, кому-то интересны были эти тягучие, нерифмованные строки. На титульном листе, пожелтевшем по краям, стояла овальная сиреневая печать: «Изъ книгъ Алексія Воздвиженскаго», а ниже другая — фиолетовая, свежая, школьной библиотеки.
— Да-да, нашего покойного священника книга, — пояснила Марья Гавриловна, бережно вынимая ее из рук Наташи. — Странный был человек, странный и сложный! Достоверно известно: несколько раз намеревался сложить с себя сан. Мы с ним были едва знакомы, даже раскланивались не всегда, но я знаю. Духовный кризис, какие-то ссоры с благочинным… Помню, с какой готовностью он после войны подписывался на займы! Книги передал нам его племянник. Приехал на похороны из Москвы, забрал несколько икон и библию — уникум, редкое издание, чуть ли не времен раскола. Такое, знаешь ли, с застежкой на переплете. «Иконы, — говорит, — суздальского письма». Семнадцатый, кажется, век. Он называл, да я не запомнила. Говорил, что жена будет очень рада. Сейчас, когда так возрос интерес к русской старине…
К русской — да, тут и спору нет. Ну, а, скажем, к японской? И Марье Гавриловне, которая несколько дней — до прибытия московских родственников, оповещенных о кончине священника срочной телеграммой «заверенный факт», — по просьбе сельсовета, где хорошо знали и высоко ставили ее честность, побыла кем-то вроде одной из душеприказчиц покойного, вспомнилась папка с гравюрами, лежавшая на книгах, в узком застекленном шкафу. Ох, лучше бы ей не раскрывать ее, не развязывать серых тесемок! На больших, пожелтевших от времени, как бы засиженных мухами листах старый самурай — лысый он был, бритоголовый? — развлекался с юною гейшей, прическа которой была высока и сложна. И первое, что пришло в голову, когда от щек отхлынула кровь: немедленно порвать все это, сжечь, уничтожить!
Будь это фотокарточки, Марья Гавриловна ни секунды бы не колебалась. Ей изредка, но случалось отбирать такое у ученичков. Но гравюры… чужая собственность, чужое наследство! Бог знает, может, это искусство? Она никому не сказала о папке. И московский племянник покойного не обмолвился о ней и словом. Однако увез ее с собой вместе с прочим — Марья Гавриловна знала это точно. А вот о том, рада ли будет такому наследству его жена, приходилось только догадываться. Как и о страшной пустыне одиночества, в которой усопший старец влачил свои последние земные дни, как и о миражах, служивших ему утехой.
«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
С женщиной! А тут — бумага… Слаб человек! Это в нашем характере: пытаться утолить жажду не водой, но ее химической формулой, написанной на песке. H2O — пишем мы и еще удивляемся, что жажда не проходит. Но о мертвых — либо хорошо, либо ничего. И Марья Гавриловна вздохнула, вспомнив, что сама-то она после того случая приготовилась, как могла, к неожиданному концу — в лапшу, безжалостно искромсала ножницами, а потом сожгла в печи кое-какие давние, глупые письма и тетрадки, в которых пыталась вести дневник.
Словом, как у Тургенева:
И я сжег все то, чему поклонялся,
И поклонился тому, что сжигал.
— Ну, да бог с ней, со стариной, Наташа! Расскажи лучше, как живешь.
И вместо того чтобы пересказать обкатанную, привычную версию о муже-капитане, который служит в дальнем гарнизоне, «на точке», куда ей, Наташе, нельзя с ребенком из-за сурового климата, Наташа вдруг заплакала, села и, всхлипывая так, будто получила незаслуженную двойку, рассказала Капитанской Дочке все… почти все. Рассказала о том, что поначалу хотела сделать аборт, многие девчонки советовали, сами через это прошли, но врач из женской консультации, Демидова Екатерина Степановна, молодая и душевная женщина, отговорила ее. Интересно, а у самой Демидовой есть дети?
О том, как трудно было рожать — двенадцать швов, это вам не шутка! — и как горько и обидно было потом лежать в многокоечной палате и слышать по вечерам, как внизу, под окнами, вызывая жен, орут и беснуются чужие счастливые мужья. Один, нетрезвый, даже полез на второй этаж по водосточной трубе и долез бы, наверное, до самых окон, если бы во двор не вышла пожилая дежурная сестра в пальто, накинутом поверх халата на плечи, и не пристыдила б его. Он спрыгнул вниз и отошел к приятелям, в тень, смущенно посмеиваясь и отряхивая ржавь с ладоней и брюк. Слова, оказывается, отрезвляют быстрее стужи.
Другим — каждый день букеты, хоть и зима, записки и передачи, пусть букетики эти — всего-навсего покрашенный анилином ковыль, а к Наташе всего один раз пришла подруга Катя, они живут вместе, в одной комнате общежития, а второй — незнакомая веснушчатая девица из заводского комитета комсомола, размер обуви, наверное, сорок второй, передала апельсины в прозрачном пакете и книгу Александра Серафимовича «Железный поток» — подарочное издание, формат огромный, цветные иллюстрации. Апельсинов кормящей Наташе было нельзя, потому что у Андрейки с первых дней появился диатез, мучающий его и посегодня. Толстокожие марокканские плоды поделили между собой нянечки и сестры. Забирать Наташу в день выписки никто не пришел, напрасно она, дозваниваясь в общежитие, опускала монетки в телефон-автомат, висевший в коридоре, и домой она добиралась одна, плача, с Андрейкой на руках, завернутым в чужое стеганое одеяло.
Все это примерно так и было. Однако Наташа не рассказала Марье Гавриловне о том, что в палате, ночью, подумала, а не отдать ли сына в дом ребенка — есть, оказывается, и такой, существует себе где-то без излишней рекламы. Она ни с кем не поделилась этими планами и хорошо сделала, что не поделилась: одна, лежавшая в соседней палате, тоже первородка и одиночка, лишь заикнулась об этом вслух, и женщины, соседки по палате, едва не отлупили ее. Откуда и силы взялись? Минуту назад лежали, охали. А уж ругались они, будто пьяные мужики на улице в праздник. Любишь кататься, люби и саночки возить! Дежурные сестры, сбежавшиеся на шум, едва утихомирили их, едва растащили. Одиночку перевели в отдельный бокс. И уж тем более Наташа не посмела рассказать старой учительнице, похожей на пастора, какие страшные, людоедские мысли посещают ее иногда, особенно по ночам. Потом, при трезвом свете дня, о них и вспомнить нельзя без содрогания. Разве про такое расскажешь?
— Он же маленький еще, ему не объяснишь, не прикажешь, — утирая обильные слезы, говорила она. — Заплачет ночью, а соседки сразу в стенку стучат, да как зло! Хорошо хоть, что комната у нас теперь угловая. И Катька вскочит, бигуди торчат, глаза бешеные. «Да уйми ты его! — кричит. — Неумеха!» Лучшая подруга, а чувствую: разорвать готова…