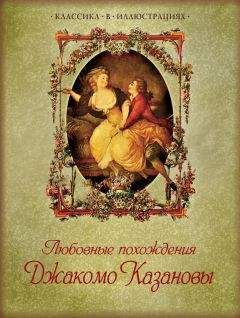И всю жизнь охотница Люба на рынке стоит, зверье убитое продает, — а сама уже темна лицом, как гробовая доска, как черная икона.
Только что и любил ее один Иннокентий, байкальский омулевый рыбак, по прозвищу Коряга. Она оттолкнула его, когда он к ней жить попросился; Коряга пошел, купил две бутылки серебряной водки, пешком пошел на Байкал, отвязал чужую лодку, отплыл далеко от берега, медленно пил обе бутылки, глядел, как льдины печально, царственно плывут по зеленой парчовой воде, как радостно сияют под солнцем розовые зубцы хребта Хамар-Дабана, а потом торосы поплыли по небу, и выпрыгнули к Корягиной лодке прозрачные рыбки-голомянки, — и он к рыбкам потянулся, хотел их поцеловать пьяными губами, да так и кувырнулся в хрустальную воду, и топориком пошел на дно. А когда Любе о том сказали, — прикрывая рот ладонью, горько морщинясь, шепотом, — она лишь молча осенила себя широким крестом.
А это кто — рядом? Девочка маленькая, в тулупчике, кошками ободранном! Как ее звать?
— Как зовут тебя, девчонка?..
— Ксенией!..
— Славное имя, старое…
За прилавком стоит баба молодая, лицо теплым платком обвязано; на девчонку смотрит строго. Должно быть, ее мать. Дают бабе малый грош заработать, громким зазывом нищий хлеб приторговать: кошма привольно разложена по колко блистающему пирамидками инея прилавку, и на ней — жмурьтесь, ахайте, осовелые люди! — холмы, бугры, пригорки оранжевых, пронзительно-алых, густо-медовых, золотых, как россыпи золотых хуннских монет из степных курганов, ягод, — они сыплются, ниспадают, переливаются на солнце — дразнятся, вспыхивают, как граненый кушанский топаз! Ксении хочется зарыть в них лицо, руки, щеки, шею.
— Почем облепиха, хозяйка?
— Не дороже денег!
— А ну как и куплю?
— Помолюсь за тебя от души!
— Сыпь!.. Эх, е-да-ты-мое, сладка!.. Чище бурятского меда!..
Оборачивается баба в вязаном платке к девчонке.
— Ксенька!
— Что, мама?
— Не замерзла?
— Нет еще!
— А что нос-то белый?! Рукавицей потри! Быстро!
Ксения замерла у прилавка, исподлобья уставилась на мать. Она твердо знала: облепиха чужая, ей и ягодки не отколется. На наторгованные деньги мать купит ей сахару, чтоб не скучно было пить горький чай, и синего тощего куренка — долго будет в котле вариться суп, и три дня они будут с матерью есть его. И все же искушение задушило ее.
— Матушка, я ягодку стащу…
— Отлепись, девчонка!.. Побегай вон еще, согрейся, погуляй по рынку!..
Она дождалась неуловимого момента, когда мать чуть скосила глаза вбок, на ворону, прыгнувшую с застрехи к золотому ягодному блеску, ринулась тигренком, схватила в горсть огненных ягод — и сломя голову побежала вдоль рыночных рядов, окуная лицо и губы в холод и сласть. В ягодах были смешные плоские косточки — она их глотала: вместе с воздухом, морозом, инеем, колючками. Встала под воробьиным навесом. Слизала все с ладошки. Торговка горячей картошкой, увидев соплячку, покатала на руке дымящуюся картофелину, защипнула грубыми толстыми пальцами жареный лук, посыпала, протянула: «Ешь!» Ксения знала, что людей, тебя одаряющих, надо благодарить; знала она и то, что в ответ на благодарность из уст человека можно услыхать обидную, злую ругань. Темно поглядела она на испускающую пар картошку, качнула головою, и уши ее ушанки закачались.
— Нет, тетя, — сказала она. — Спасибо, тетя! Вы сами замерзли! И картохи у вас — мало!
И пошла от лотка гордо, как маленькая княгиня, озирая свои владения, любуясь яркими небом, снедью, снегом.
Овечье-белый камень площадной, перед рынком возвышавшейся церкви неистово горел на солнечном ветру. Мелко, дробно, словно сыпались серебряные семечки из кожаной торбы, звонили колокола. Дверь храма была открыта, и оттуда тянуло пчелиным и тягучим запахом — ладаном, воском, праздником. Будто огромная мягкая лапа толкнула в спину Ксению. Она не пошла, а побежала к распахнутым церковным дверям, спотыкаясь, чуть не валясь носом в снег.
Взобралась по ступенькам. Протолкалась через коленопреклоненных старух в притворе. Впервые в жизни была она в большом храме, под куполом, в живом дрожании множества свечей, в излучении горячих, молящихся сердец. Еще ближе, туда, к высокому многоярусному иконостасу, к Царским Вратам, к алтарю. Что там? Кто?.. Люди в ряд стоят, босиком на расстеленных на каменных плитах циновках. Бородатый длинный человек в черном, до пят, мешке, с прозрачными, до дна просвечивающими глазами медленно перелистывает пухлую Книгу, разложенную на ящичке, прикрытом куском парчи. Что-то бормочет быстро, быстро — не понять ни слова. Рядом с ним — резная мраморная ваза, такие, Ксения видала, и в городских парках понатыканы. Другой бородатый человек в тяжелых серебрящихся одеждах наклоняется, зачерпывает круглым серебряным ковшом с витой ручкой из ведра, у себя под ногами, воды, льет в мраморную вазу, крестится. Подходит к стоящим в ряд людям — тут и мальчики, и исхудалые, с косичками-уклейками, девочки, и парень обритый, будто вчера из тюрьмы, в поношенных физкультурных штанах, и приземистая, широкоплечая баба на руках орущего младенца держит, а грудничок орет и извивается, выпрыгнуть из рук хочет, и баба качает его по-цирковому, ловко и опасно бросая с руки на руку, только бы угомонился, — и девушки с горящими глазами и тощими шейками, высовывающимися из сползших на плечи монашеских платков, — и всем-всем мажет кисточкой из серебряной коробочки по лбу, по вискам, по груди, по ладоням, вот на корточки садится и — хвостиком кисточки раз-раз! — по коленям и ступням, — а поодаль, дальше всех, стоит русобородый мужчина, золотые кудри падают ему на плечи, узкие волчьи глаза горят темной кровью занебесных гольцов и священных пещер, мрачно сведены его брови, штаны закатаны до колен, он голый по пояс, и длинный бородатый человек в струящихся, как вода, одеждах выхватывает его из всего большого ряда присмиревших босых людей, стоящих на ковриках, цепляет за руку и ведет к мраморной вазе. Вот руки русобородого по локоть в купели. Вот быстро бормочущий что-то бородач набрасывает на его наклоненную беззащитную шею чистое полотенце. Зачерпывает ковшом воды из ведра. И льет на голову русобородому мужику — раз, другой, третий! Жидкое серебро воды мятно, железно сверкает, оловянным, спиртовым блеском течет с обнаженной головы и шеи — в купель. Вот уже в тюрбане полотенца отходит от вазы мужик, и бородач тихо надевает ему на шею черный шнурок. А это что блестит на шнурке? Ксения суется ближе, ближе, наступает на пятки шепчущим, крестящимся старухам, молодухам с грудниками на руках. Она видит — в густой поросли волос на груди русобородого мужика запуталась маленькая золотая стрекоза.
Не помня себя, Ксения кидается прямо под ноги бородатому:
— И у меня такой! Поглядите! У меня тоже такой есть!
Быстро, словно боясь опоздать куда-то, она распахнула шубенку, разодрала шарф, рванула воротник кофтенки. Крестящиеся изумленно, оторопело воззрились. Священник внимательно, испытующе склонился к маленькой девочке, зажавшей нечто в кулаке под подбородком. «Покажи! — ласково шепнул он. — Тебя в храме никто не обидит!..» Ксения, глядя прямо в глаза батюшке, медленно разжала кулак.
В грязном, замурзанном детском кулачонке истово, торжествуя, просверкнула бирюза — небесно-опасным, смертно-изначальным светом. Священник, молча рассматривая бирюзовый крест, подумал о том, что так горят на рассвете далекие святые горы Беловодья. А может, так горит Байкал, когда вокруг залягут снега и бесовски запляшут метели, а он все хранит живую синюю ласку по-мужски спокойной воды.
— Ты крещеная, раба Божия? — строго, блестя добрыми глазами, спросил он.
— Нет, — помотала головою Ксения и улыбнулась.
— А крест зачем тогда носишь?
Ксения смутилась, голову опустила. Молчала.
— Это я однажды спала, спала… а во сне его на меня мама надела, — еле слышно пробормотала.
— Так давай я тебя окрещу, — просто сказал священник. — Как звать тебя?
— Ксенькой…
— Что ж, Ксения. Опускай ручонки в купель. Наклоняй голову. Эй, восприемники, у кого-нибудь осталось сухое полотенце?..
Ксеньина шубка упала к ногам. Она, как новорожденный бычок, неумело, едва держась в равновесии, наклонилась над резной каменной чашей. И когда на нее сверху, из ночного запредельного мира, из страшного и прекрасного Мира Взрослых, полного звезд, крови, войн и любовей, обрушились потоки воды, она сначала задохнулась, потом стала ловить эту воду ноздрями, губами, не понимая, теплая она или холодная, сладкая или соленая, она чувствовала, что вода была ж и в а я, что она омывала ее для новой жизни, а священник, воздымая в худой руке ковш, говорил — и она слышала это ясно — о Потопе, об Омовении, о Гробе Господнем. Ропот людской кругами ходил по церкви. Слышались всхлипы.