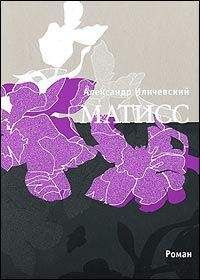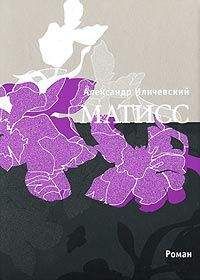Ваде не с чем было сравнить, но ему казалось, что думанье у него должно неплохо получаться. Он связывал это не только с головой, а с ловкостью, какой обладало все его невеликое тело, большие руки, которые он подносил словно на пробу ко лбу, вел к виску. Думанье для него всегда начиналось с того, что было под рукой, и развивалось созвучием емкости тела и ближайшего пространства, в котором оно находилось. Неким излучением протяженности, позволявшим телу строить свое расширение на области, удаленные настолько, что там, на краю, захватывались обратные токи времени. Вадя считал, что время и пространство только здесь — вокруг рук, глаз, ног — трутся друг о дружку. А если забраться подальше — там они увиливают от пары, пускаясь в околесицу, способную увести хоть в детство, хоть к мертвым.
Утро Вадей неизменно отводилось для роста пространства. Думанье, шевелящееся сверкающим, льющимся пузырем, он рассматривал с уважением, как изысканное удовольствие. Он так это думанье и называл про себя: мечта.
Ему нравилось само слово, но его общепринятая суть улавливалась темно. В детстве он много раз смотрел кино о гонщике, выступавшем на мотоцикле “Серебряная мечта”. Вот этот мотоцикл и мотался внутри того хрустального шара, раздувая его бешеным верчением, как ураганное дыхание стеклодува.
Его удивляла непохожесть того, что он думал, на те слова, которыми он мог бы это передать Наде. Мир думанья вообще представлялся ему потусторонним — тем, который ближе к правде, — и потому он берег его, не расходовал грубым усилием.
Сначала он представлял себе, чем они займутся сегодня. Или вспоминал детство. Или думал о том, какая Надя бестолковая, как научить ее, как направить.
После победы в гонке мотоциклист разбивался.
Сейчас ему хотелось отлить. Но он знал, что надо потерпеть, потому что если не потерпеть, то все равно два раза бегать. Вдохнул. И выдохнул. Снова закурил.
У него возникло ощущение, что сейчас он подумает еще более приятное, — и постарался не сразу все вспомнить, а пожмуриться на солнечный свет. Солнце наполнило ресницы, разрослось лучистым зайцем, он сморгнул.
Да, сегодня они снова пойдут за стекляшками. Красота.
Третьего дня они наконец напали на то, о чем Вадя мечтал: на клад.
Вадя нащупал в кармане флакон, потер о рукав. Поставил, залюбовался. Грубое, с йодистым отливом стекло просияло. Мутный свет наполнил склянку и рассеял ореол, тронувший дым от сигареты. Флаконы в кладе были разноцветные — белые, синие, зеленые, коричневые, с притертыми оббитыми пробками, с печатками герба, образбов, надписями АПТЕКА, PHARMACIE. Это было целое сокровище.
Сызмала Вадя хотел найти клад, представляя его частью потусторонней, скрытной жизни. И не богатства ради ему был он ценен. Вадя считал доступный окружающий мир — оплотом неправды. Он был уверен, что правда находится где-то далеко-далеко, что она зарыта. Как собака. В силу чего не столько клад, сколько светлое усилие, с которым он искал — заглядывал с лавки на козырьки подъездов, нагибался перед скамейками, заученно проводил рукой под сиденьем троллейбуса, — не что-то ценное, а только малодоступное, невидное общему глазу, пусть бросовое — даже пудреницу, треснутую, выскобленную до жестяного пятнышка, даже детские часики, подобранные в песочнице на бульваре, он рассматривал подолгу, внимательно представляя, как обрадовались бы владельцы находке — тому, что частица правды вернулась к ним. И откладывал в сторону.
Вадя поднаторел в мусорных кладах, в отличие от Нади. Она не умела искать, не было у нее интереса к вещам. Он с удовольствием ворчал, найдя что-нибудь ценное, — это был лишний повод утолить сердитую любовь…
Месяц назад Вадю осенило. Он понял, что клад нужно искать там, где ведутся подземные работы, где ухает свайная “баба”, где хлобыстает отбойный молоток, глумится над панелью экскаватор, взлетают лом и лопата, где тарахтит компрессор, — и ноги шатко перебираются по мосткам, грохоча железным листом, оскальзываясь, зыбко чуя метры падения.
Вадя по ходу вспомнил, как один кореш во рву теплотрассы откопал спинку кровати и, свернув шишечку со стойки, добыл стопку серебряных рублей.
Много раз Вадя рассказывал Наде историю про серебряные рубли, додумывал ее, показывал, как не откручивалась шишечка, как кореш ее оббивал, зажимал, смазывал, отмачивал в керосине, калил в костре, потом вытряхивал, стучал, бил, доставал монеты, застопоренные ржой. Бродили они в поисках мест, где строятся подземные стоянки, подземные переходы, дорожные тоннели, прокладываются трубы, вскрываются фундаменты. Приметив, дожидались, когда ночная смена уходила в отбой, часа в три ночи.
В кладоискательстве Наде нравилось, что они ночуют на улице. На улице на них никто не орал, на улице было интереснее. Вадя ставил ее на атанду, а сам перелезал через частокол арматуры, торчавшей из опалубки, сложно спускался в котлован — по приступкам и железным лесенкам, зацепляясь за кабели, витыми пучками струившиеся от компрессора.
Надя незряче осматривалась по сторонам, как велел ей Вадя, но потом забывала и, открыв рот, смотрела, как на отвале грунта он разбивал доской куски, как шарил там и сям. Потом отвлекалась на работу помпы, которая дребезжала, чавкала, отхлебывала глинистую воду из разверстой ямы через драный, дышащий брызгами гофр.
И вот вчера в одном из переулков у Покровского бульвара они обнаружили холм свежей земли, желанный, как стог хлеба: здесь перекопали сквер и начали строительство подземного гаража. По холму уже ползал искатель, с фонариком на лбу и с лотком в руках. Брал саперной лопаткой землю, разминал, сыпал, протирал через сетку, интересное откладывал на газету, камушки отшвыривал. Время от времени брался за металлоискатель, зажимал плечом наушник, водил там и сям по склону, морщась от зуммера.
Вадю на холм не пустил.
Молча сильно пихнул его. Вадя слетел с холма, а когда попробовал подойти с другой стороны, мужик кинулся и снова толкнул, подскочил еще и постоял рядом, тяжело дыша, поводя руками у боков, но не тронул.
Вадя упрямо стал в сторонке. Надя подошла к нему.
Завтра землю должны были вывезти. Мужик проворно раскурочивал отвал. Молча. От азарта он сопел, плевался.
Вадя умел стоять насмерть. Он так милостыню собирал: неподвижно. Никогда не попрошайничал, а становился на колени у стены, клал шапку, не смел поднять взгляда. Только кивал, когда подавали. Его большие руки свисали как отдельные тела — он их бережно подбирал к себе, укладывал у колен, как клешни. Надя тем временем ходила туда-сюда с целлофановым пакетом, с подсобранными, как на чулке, полями. Набирала она крохи. Одно время они почуяли уловистое место — отель “Мариотт” на Тверской. Здесь постоялец мог, возвращаясь с прогулки, сбросить и доллар, и десять. Легенды ходили о сотне, сорванной Катюхой-сычихой.
С прямым лицом Вадя становился на колени у стены за углом. Место было злачное: то бабки трясли пластмассовыми коробочками с мелочью перед прохожими в дорогих пальто, то солдаты, кучкуясь у лотков с мороженым, посылали гонца-стрелка. Тот отходил на квартал, высматривал в толпе донора, садился на хвост, попадал в ногу и, вкрадчиво заговаривая, просил помочь деньгами. Иностранец не соображал, что от него ласково хочет военный, ускорял шаг и, случалось, только чтобы дать понять, что до солдата ему нет дела, черпнув мелочи из кармана, ссыпал ее Ваде в шапку. Солдат тогда спадал с ноги и, возвращаясь, молча пинал Вадю сапогом, оставляя у него на боку, животе или плече еще один подошвенный след.
Большой Трехсвятительский дыбился лесенкой припаркованных машин, подымаясь горой к бульвару, убегая вниз и влево, к реке, где тянулись, пыхая, лохматые гнезда фонарей, текла красными стоп-сигналами набережная и синела над речным простором крылатая громада высотки, похожая на вздетую в небо птицу. Окна домов у Нади в глазах расплывались, дрожали желтыми икряными зеркалами, в которых она силилась разглядеть себя, но они не допускали взгляд, превращаясь в яркие дымящиеся ломти мамалыги, — сытно плыли, утягивая ее за собой, — она сопротивлялась, ей нужно было остаться с Вадей, куда она без него?
Наконец искатель сделал перерыв. Сел на землю, вытянул ноги, как торговка на тюках. Стянул с хлопком резиновые перчатки, закурил.
Надя подошла поближе, потянулась посмотреть — что там на газетах. Руки у мужика дрожали, затягивался он жадно, распаренные сырые пальцы освещались затяжкой, как утопленники рядком на траве — фонариком.
— Слышь, а ты там вон глянь, там стекляшек море. Аптека тут, что ли, была, — крикнул мужик Ваде и махнул рукой назад.
Вадя постоял, затем недоверчиво подошел к яме.
Надя осталась смотреть на искателя.
Мужик спросил:
— Чего смотришь? На, покури.
Надя взяла сигарету, послюнявила, сунула за ухо.