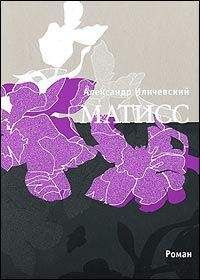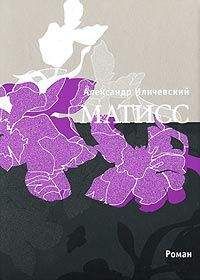Мужик спросил:
— Чего смотришь? На, покури.
Надя взяла сигарету, послюнявила, сунула за ухо.
— Иди сюда, чего встала. Вот дура. Сюда иди, бестолочь… — Вадя осекся, замучившись от своей грубости.
Надя подбежала. От испуга у нее дрожало все лицо.
Вадя сидел в яме и жег спички. В глиноземе, как конфеты, потерянные в песочнице, как желанный детский “секрет” — с жуком и листиком фольги от кефирной крышки, виднелись цветные стекляшки.
— Ну, ты… это. Ты чего… — решил он как-то смягчиться, но не знал, как ему поступить, и рассердился от своего замешательства, так что замахнулся снизу на Надю: — Дура ты!
Надя стояла завороженная.
— Ну, ты чего!.. — бесполезно повторил Вадя, чтобы себя взять в руки. Он задыхался, скованный волной, вдруг пошедшей со спины и схватившей затылок.
Королев не всегда был живым трупом. В школьные и студенческие годы он с отрадной поглощенностью оставался открыт миру мыслей, их конструкций. Мир людей долго казался ему простым, не требующим никаких усилий, кроме добра и честности. Эти категории долго и неэкономно понимались им как аксиоматические, не требующие вникания.
Королев добросовестно считал, что ему в жизни повезло. В детдоме с ним жили нормальные дети, учили его добросовестные учителя. И воспитатели относились к нему снисходительно: как к сумасшедшему, но способному ребенку.
Поселок Яблоново, под Коломной. В детдоме восемьдесят четыре воспитанника. Отсюда уют и внимательность надзора. Память о младшей школе сопряжена с лесными, речными походами (на байдарках по соседней Калужской области, по партизанским местам: поисковый отряд “Кассиопея”, лесистые берега Угры, болота, дебри, белые рыхлые кости, крепкие челюсти, стальные, холодные в ладони коронки, обрушенные землянки, канавы окопов, сорокапятка на целом, колесном ходу, гаубичные снаряды, выплавка тола, взрыв, оторванная кисть Игната, фашистский “тигр” по башню в трясине, похороны руки, на берегу, посадили у холмика иву, гибкую, стройную, как рука, как пальцы) и, конечно, с физикой и математикой.
Королев питался задачами. В седьмом классе в журнале “Юный техник” он прочел условия вступительных задач в Заочную физико-техническую школу при МФТИ и с тех пор не мог остановиться. Чтобы заснуть, он прочитывал условия двух-трех задач — и утром, еще в постели, записывал решения. В восьмом классе, после областной математической олимпиады, его пригласили в лучший в стране физмат-интернат. И он поступил. Так прослыл Королем.
Королев обожал вспоминать, он жив был тем сильным чистым огнем, которым его наполняло детство. Несколько лет ездил в оба интерната, на школьные каникулы, на День учителя. Огонь постепенно гас. В младший интернат он приезжал уже не как домой, но все равно ездил регулярно, пока тот не расформировали. Тогда стал наведываться к своей “классной”, в Коломну. Зимой третьего курса Мария Алексеевна умерла. Родственники ему телеграмму не дали. Он приехал через месяц, пришел на кладбище, сел у могилы в сугроб. На ограду слетела галка. Так они и пробыли до самых сумерек, озираясь на заставленную крестами, зарешеченную белизну.
Другой класс Королева, несмотря на горячую дружность, со временем оказался разобщенным, как если б его и не было. Многие разъехались по стране и миру, остальных жизнь растащила в углы. Ровно то же произошло с его институтскими однокурсниками. Их море жизни разнесло еще неописуемей. Кто-то, как он, впал в прозябание, кто-то стал богатым, кого-то — по части бизнеса — посадили вымогатели или конкуренты, кого-то по той же части убили, и лишь немногие сумели остаться в науке, да и то ценой эмиграции.
В выпускном классе Королев был вынужден откликнуться на моду, в которую вошли рассуждения о духовности, и ознакомился с Библией. Вскоре вопрос о религии был решен при помощи следующего рассуждения, которое он произвел в качестве ухаживания (лунная ночь, Кунцево, окрестности сталинской дачи, дорожки, высоченный зеленый забор первичного ограждения, вдалеке за деревьями шоссе проблескивает пунктиром фар, белые ложа скамеек, на которых постигается пылкая наука любви, сухие пальцы бродят у пояска, скользят вверх, встречая нежную упругость): “Может быть, я изобретаю велосипед, но из теоретической физики ясно, что мощные, головокружительные, малодоступные модели мироздания, порожденные интеллектом, если повезет, оказываются „истиной”, то есть чрезвычайно близкими к реальному положению дел во Вселенной. Не потому ли именно так обстоит дело, что разум, созданный — как и прочее — по образу и подобию Творца, естественным способом в теоретической физике воспроизводит Вселенную — по обратной функции подобия? Тогда проблема строения мироздания формулируется как поиск своего рода гомеоморфизма, соотнесенного с этим преобразованием подобия…”
Дальше его рот окончательно был закрыт пытливым поцелуем — и больше о религии Королев никогда не рассуждал. Никогда вообще.
.......................................................................................
Шквал больших перемен застлал юность Королева.
Иные воспоминания обжигали. Так ладони горят от тарзаньего слета по канату из-под потолка спортзала.
Звон разломанной палочки мела.
Грохот парт.
Гром звонка.
Салют.
Салют происходил на пустыре, в низине, у берега Сетуни, где находились специальные бетонные парапеты для установки залповых расчетов. Они подбегали почти вплотную. Видели отмашку командира. Задирали головы вслед за воющей вертикалью взмывшего стебля, который, спустя задыханье, увенчивался сияющими астрами, накидывавшими на огромный воздух световую путанку, как гладиаторскую сеть. Сразу после вспышки следовало присесть на корточки и накрыть затылок руками, чтобы уберечься от верзившихся шпонковых гильз. Невдалеке над Сетунью они строили весной “верховки” — шалаши на настиле из досок, прибитых к ветвям подходящей ветлы. Там, дурачась, нацепив ермолками обгоревшие полусферы салютовых гильз, “монстрили” первый том Ландафшица, щелкали вступительные на мехмат, маялись стереометрической задачей из физтеховского сборника, играли в преф, курили, читали Сэлинджера, упражнялись с гравицапой или просто бесконечно смотрели в высоченное, пустое и влекущее, как будущее или нагая дева, небо.
Королев не раз думал вот о чем. Однокашники его родились — приблизительно — в 1970 году. И благодаря истории учились думать тогда, когда думать было почти не о чем, то есть некогда: кингстоны арестантской баржи были открыты, команда уже отплыла, не оставив ни одной шлюпки. Люди, родившиеся в окрестности 70-го года, отличаются от тех, кого было бы можно в обиходе назвать их сверстниками. Хотя после тридцати эта разница почти улетучивается, но еще несколько лет назад люди 67-го или 73-го года рождения были — первые заметно “еще не”, вторые разительно “уже не” такими. В юности происходит невероятное ускорение роста впечатлений, мыслей — время замедляется, будучи сгущено жизнью, — словно в точке предельной опасности. Именно поэтому в 18 — 20 лет, рассуждал Королев, они оказались на верхушке цунами, опрокидывавшего известно что: они развивались параллельно с временем турбуленций, они были первым лепетом этого Времени — и, нехотя пренебрегая переменами, они все на них невольно озирались, рефлектировали, оглядываясь на самих себя и могли, в отличие от остальных, более свободно, более одновременно обозревать: неясный — то ли камни, то ли рай — берег и унылый, отстоящий вечно горизонт. Иными словами, у них была уникальная составляющая движения — вдоль волны. Хотели того или нет, но на свое развитие они проецировали развитие/разрушение окружающей среды. То есть их набиравший обороты возраст вполне можно было тогда измерять степенью инфляции. Именно из-за этой естественной деструктивности породившего их времени раньше он не думал, что от их поколения можно ожидать чего-то примечательного. Королев считал, что в лучшем случае он хороший наблюдатель и, видимо, только подробный фенологический самоанализ — его удел. Однако склонность к саморазрушению в целом оказалась столь же доминирующей, как и созидательное начало. Свобода их все-таки искупила. Сейчас, оглядываясь вокруг, перебирая образы, дела, направления, Королев понимал, что существенная часть того малого лучшего, что сделано в стране, — сделана руками именно его поколения.
И оттого еще горче пустота спазмой сдавливала, шла горлом.
Он видел повсюду страх. Видел его воочию, везде. Сначала думал, что это от одиночества, что его несознаваемой части души просто скучно и в среде несбыточности она ищет боли. Но скоро понял, что не все так просто.
При совершенной безопасности, при полном отсутствии внешней угрозы, при окончательной невозможности конца света, которым питалось старшее поколение и который сейчас обернулся пшиком, — повсюду тем не менее был разлит страх. Ежедневный страх вокруг стыл студнем, дрожа зыбкой, густой безвоздушной массой. Люди — уже нечувствительные к обнищанию, к ежедневному мороку тщеты — боялись неизвестно чего, но боялись остро, беспокойно. Действовал закон сохранения страха. Боялись не отдаленных инстанций, не абстракций властного мира, а конкретного быта, конкретных гаишников, конкретного хамства, конкретного надругательства, вторжения. Причем это была не просто боязнь. Через эти заземленные страхи проходил мощный поток непостижимого ужаса. Пустота впереди, пустота под ногами, память о будущем у общества — и тем более власти: меры ноль. Страна никому, кроме Бога, не нужна. Все попытки обратиться к Нему окунают в пустоту суеверия.