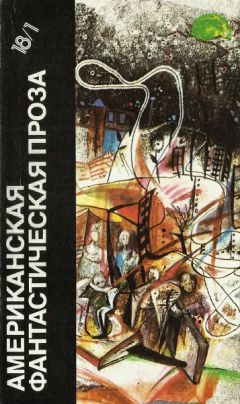Много лет назад, милый Джеймс, стали мы готовиться к смерти нашего городка и к исходу горожан. Запасли сотни гигантских деревянных колес, неимоверное количество бревен, железные скобы.
Колеса, как и бревна, годами рассыхались под солнцем, сложенные на окраине.
А потом грянул трубный глас, нарушив твоими устами пир во время чумы; ты видел, как бледнели наши лица при каждом откровении. В середине твоей речи мне подумалось, что ты вот-вот отступишь, сломаешься и обратишься в бегство, преисполнившись нашей тревоги. Но ты остался. Договорил до конца. Мне казалось, ты упадешь замертво и не увидишь нашей гибели.
Ты поднял голову, а нас уже и след простыл.
Мы знали: у тебя в душе разлад, и поэтому я дала тебе единственное лекарство, которое знала, — свою заботу и слова утешения. А когда ты, не дожидаясь остановки, вскочил в тамбур дневного поезда и умчался прочь, мы поглядели на сложенные возле города железяки, деревянные колеса, припасенные для помостов бревна — и воображение нарисовало, как наши дома, амбары и сады перекочевывают в неведомую даль, чтобы никто уже и не заподозрил, что в этом месте некогда текла жизнь, которая больше не вернется.
Не правда ли, тебе ведь приходилось видеть одинокое бегство: дом, водруженный, словно игрушечный, на деревянный помост, плывет вслед за тягачом по городским улицам на отведенный для него пустырь, а на прежнем месте остается одна пыль? Умножь эту картинку на сто — и увидишь настоящий караван: это целый город с плодовыми деревьями в арьергарде ретируется к подножьям гор.
Такое вполне возможно. Однако к любому походу нужно готовиться: разрабатывать планы, завершать начатое, строить тысячи кораблей, выпускать десятки тысяч танков и пушек, сотнями тысяч делать ружья и отливать пули, штамповать миллионы касок, шить десятки миллионов кителей и шинелей. Как все это было нелегко и как пригодилось, когда грянула война, обратившая нас в бегство. Сегодня наша задача куда проще: снять с места город, поставить его на колеса и возродить заново.
Со временем наши скитания обернулись не похоронным маршем, а триумфальным шествием. Нас подгоняло громыханье воображаемого грома и угрожающее шипенье этой новой магистрат, выползающей из-за восточных отрогов. По ночам мы слышали, как она тянется что есть сил в нашу сторону, чтобы не дать нам уйти.
Короче говоря, поставщики бетона, которые, собственно, и вращают землю, нас не настигли. В последний день нашего исхода здесь остался — вот как раз где ты сейчас стоишь — только ветхий перрон в окружении апельсиновых и лимонных деревьев. Этим предстояло уйти последними: дивной колонной тонко благоухающих крон, по четыре в ряд пересечь пустыню, чтобы подарить тень нашему — отныне тайному — городу.
Оцени сам, как у нас это получилось, милый Джеймс. Снявшись с места, мы не оставили за собой ни камешка, ни булыжника, ни съестных припасов, ни могильных плит. Перевезли все, все, все.
Вот дотянут сюда шоссе — и что найдут? Да и был ли когда-нибудь в штате Аризона такой городок Саммертон — здание суда, ратуша, пригородный парк, опустевшая школа? Нет, ничего похожего здесь не было. Глядите: одна пыль.
Оставлю это письмо на вокзальной почтовой стойке; надеюсь, ты его получишь, если часом занесет тебя в эти края. Что-то мне подсказывает: ты вернешься. Сейчас поставлю подпись, запечатаю конверт и словно передам его тебе из рук в руки.
Когда дочитаешь до конца, дорогой мой друг и возлюбленный, развей эти строчки по ветру.
Внизу стояла ее подпись: Неф.
Он разорвал листок на четыре части, потом еще и еще раз — и подбросил конфетти в воздух.
«Ладно, — подумал он, — теперь-то куда?»
Прищурившись, он вгляделся в пустынную даль, где тянулась низкая гряда наполовину зеленеющих гор. Воображение дорисовало сады.
«Вот туда», — решил он.
Сделав первый шаг, он обернулся.
Как старый облезлый пес, в привокзальной пыли лежал саквояж.
«Нет, — подумал он, — ты из другого времени».
Саквояж выжидал.
— Лежать, — скомандовал он. Саквояж остался лежать.
А сам он зашагал дальше.
Когда день уже стал клониться к закату, он дошел до первых апельсиновых деревьев.
Когда над городом сгустились сумерки, в палисадниках возникли знакомые стайки подсолнухов, а над крыльцом закачалась вывеска «Герб египетских песков».
С последними лучами солнца он прошагал наконец по гравию, взбежал по ступенькам и, постояв перед дверью-ширмой, нажал на кнопку звонка. Послышались негромкие трели. В холле, на лестнице, появилась тонкая тень.
— Неф, — тихо выговорил он, помолчав. — Неф, — сказал он. — Я вернулся домой.
В тысяча девятьсот тридцать девятом году, когда мне было девятнадцать, я безоглядно увлекся радиоспектаклями Нормана Корвина[11].
Позднее, когда мне уже стукнуло двадцать семь, мы с ним познакомились, и он вдохновил меня на создание марсианских историй, из которых потом выросли «Марсианские хроники».
Много лет я мечтал, чтобы Норман Корвин поставил радиоспектакль и по какому-нибудь из моих произведений.
Вернувшись из Ирландии, где в течение года шла работа над сценарием к фильму «Моби Дик» Джона Хьюстона, я не мог выбросить из головы Германа Мелвилла[12] и его левиафана-кита[13]. Вместе с тем я по-прежнему был околдован Шекспиром, который покорил меня еще в школе.
По приезде из Ирландии я стал подумывать о том, чтобы взять да и перенести мифологию Мелвилла в космическое пространство.
Незадолго до этого Эн-би-си подвигла нас с Норманом Корвином на совместную работу над часовым радиоспектаклем. Закончив первоначальный вариант сценария «Левиафан-99», где корабли стали космическими, место мореходов заняли одержимые капитаны этих космических кораблей, а гигантского белого кита заменила ослепительная белая комета, я передал текст Норману, который, в свою очередь, отослал его на Эн-би-си.
В то время радио постепенно сдавало позиции, отступая перед натиском телевидения, и от Эн-би-си пришел ответ следующего содержания: «Просим вас разбить сценарий на трехминутные эпизоды, чтобы постановку можно было транслировать по частям».
Совершенно убитые, мы с Норманом отозвали сценарий, и я послал его в Лондон, на Би-би-си, где и была осуществлена радиопостановка с Кристофером Ли[14] в роли безумного капитана космического корабля «Сетус»[15].
Радиоспектакль вышел просто великолепным, однако мечта о том, чтобы режиссером моего произведения стал именно Корвин, так и осталась мечтой. Под влиянием своей, если можно так выразиться, «шекспиромании» я осмелился расширить текст «Левиафана-99» вдвое, и весной 1972 года по нему был поставлен спектакль в одном из павильонов на студии Сэмюэла Голдвина. Но к сожалению, те дополнительные сорок страниц разрушили мой первоначальный замысел. Потерялась сама суть этой истории. Критики были единодушны в своих саркастических оценках.
В последующие годы «Левиафан-99» ставился то здесь, то там; я мало-помалу снимал, как стружку, ненужные страницы в надежде когда-нибудь привести материал к первоначальному одночасовому варианту, который лег в основу радиоспектакля.
Сегодня, тридцать лет спустя, эта повесть представляет собой мою заключительную попытку собраться с силами и вернуть к жизни то, что начиналось как радиомечта, надежда на Нормана Корвина. Заслуживает ли эта мечта того, чтобы явиться в нынешнем воплощении, — решать вам.
Посвящается Герману Мелвиллу, с восхищением
Зовите меня Измаил.[16]
Измаил? Это в две тысячи девяносто девятом году, когда поражающие воображение новые корабли, уже достигнув звезд, продолжают свой путь дальше? Разрушают звезды, вместо того чтобы благоговейно трепетать перед ними? И вдруг такое имя — Измаил?
Да.
Мои родители были среди первых смельчаков, отправившихся на Марс. Когда смелости поубавилось и появилась тоска по Земле, они вернулись домой. Меня зачали в том рейсе, и родился я в космосе.
Мой отец, досконально знавший Библию, вспомнил еще одного изгоя, который странствовал по мертвым морям задолго до Рождества Христова.
Никто бы не выбрал лучше, чем это сделал отец, имя для меня, в то время единственного ребенка, выношенного и рожденного в космосе.
А он и вправду назвал меня… Измаилом.
Несколько лет назад решил я пересечь все моря ветров, что странствуют по этому свету. Всякий раз, когда в моей душе наступает слякотный ноябрь, это значит, что пришло время опять бросить вызов небесам.