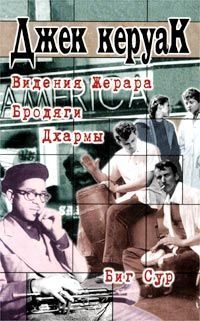После ужина прилежный Джефи принялся отскребать котелки проволочной мочалкой, а меня услал за водой; я пошел, зачерпнул кипящих сверкающих звезд старым бидоном, оставшимся от других путешественников, и впридачу принес снежок; Джефи мыл посуду в заранее нагретой воде.
– Вообще, – говорит, – обычно я посуду не мою, просто в синий платок заворачиваю, это не обязательно… Хотя подобные маленькие хитрости не одобряются в этом лошадино-мыльном заведении, как бишь его, на Мэдисон-авеню, фирма эта английская, Урбер и Урбер или как ее там, короче, елки-палки, будь я туг, как лента на шляпе, если сию же минуту не достану карту звездного неба и не гляну, что у нас тут за расклад сегодня ночью. Расклад, черт возьми, покруче, чем все твои любимые Сурангамные сутры, братишка. – Достает карту, повертел немножко и говорит: – Ровно восемь сорок восемь вечера.
– С чего ты взял?
– Иначе Сириус не был бы там, где он сейчас… Знаешь, Рэй, что мне в тебе нравится, ты пробуждаешь во мне настоящий язык этой страны, язык рабочих, железнодорожников, лесорубов. Слыхал вообще, как они говорят?
– А то. Раз в Техасе, в Хьюстоне, подобрал меня водила, часов в двенадцать ночи, когда какой-то хрен, владелец мотеля, поднял шухер, и соответственно подружка моя, Денди Куртс, меня выписала, но сказала – не поймаешь машину, приходи, ляжешь на полу, и вот, значит, жду я на пустой дороге где-то час, тут едет грузовик, а за рулем индеец, он сказал – чероки, но звали его как-то Джонсон, или Элли Рейнольдс, в этом роде, вот он говорил, типа: «Э-э, браток, ты еще и реки не нюхал, когда я мамкину хижину бросил да на запад подался, дурью маяться, нефть добывать в восточном Техасе,» – ритмическая речь, и с каждым наплывом ритма он жал на сцепление, на всякие свои примочки, и с ревом гнал эту здоровенную дуру, выжимал семьдесят миль в час, в такт своим рассказам, потрясающе, вот это поэзия, это я понимаю.
– Вот именно. Послушал бы ты старину Берни Байерса, как он говорит, надо тебе обязательно съездить на Скэджит.
– Съезжу.
На коленях, с картой в руках, чуть наклонясь вперед, чтобы разглядеть звезды за навесом сплетенных ветвей, с этой своей бородкой на фоне мощного камня, Джефи был точь-в-точь похож на то, как я представлял себе старых дзенских мудрецов Китая. Коленопреклоненный, взор устремлен вверх, в руках – точно священная сутра. Вскоре он сходил к сугробу за охлаждавшимся там шоколадным пудингом. Ледяной пудинг был восхитителен, и мы немедленно его съели.
– Может, надо было оставить немножко для Морли?
– А, все равно не сохранится, растает утром на солнце.
Пламя уже не гудело, от костра остались лишь багровые угли, крупные, в шесть футов длиной; воцарялась ледяная хрустальная ночь, вкупе с запахом дымящихся поленьев – восхитительная, как шоколадный пудинг. Я пошел немного прогуляться, посидел, медитируя, на кочке; стены гор, огораживая долину, массивно молчали. Больше минуты нельзя, холодно. Вернулся; остатки костра бросают оранжевый отсвет на скалу, Джефи, склонив колени, смотрит на небо, все это в десятке тысяч футов над скрежещущим миром: картина покоя и разума. Что еще всегда поражало меня в Джефи, так это его глубокое искреннее бескорыстие. Он всегда все дарил, то есть практиковал то, что буддисты именуют Парамитой Даны, совершенством милосердия.
Когда я вернулся и сел у костра, он сказал:
– Ну, Смит, пожалуй, пора тебе обзавестись четками-амулетом, хочешь, возьми эти, – и протянул мне коричневые деревянные четки, нанизанные на крепкую черную веревочку, выглядывающую из последней крупной бусины аккуратной петлей.
– О-о, нельзя делать такие подарки, это же японские, да?
– У меня еще есть другие, черные. Смит, та молитва, которой ты меня сегодня научил, стоит этих четок. В любом случае – бери. – Через несколько минут он подчистил остатки пудинга, перед тем удостоверившись, что я больше не хочу. Потом устлал наш каменный пятачок ветками, а сверху постелил пончо, причем устроил так, что мой спальник оказался ближе к костру, чтобы я не замерз. Во всем проявлял он бескорыстие и милосердие. И меня научил этому, так что через неделю я подарил ему отличные новые фуфайки, обнаруженные мною в магазине «Доброй воли». А он мне за это – пластиковый контейнер для хранения пищи. Для смеха я отдарился огромным цветком из альвиного сада. Через день он с серьезным видом принес мне букетик, собранный на уличных газонах Беркли. «И тапочки оставь себе, – сказал он. – У меня есть еще пара, правда, более старые, но не хуже этих».
– Так ты мне скоро все вещи отдашь.
– Смит, неужели ты не понимаешь, какая великая привилегия – делать подарки. – Он дарил как-то очень славно, без помпы и рождественской торжественности, почти грустно, и зачастую это были вещи старые, ношеные, но трогательные своей полезностью и легкой печалью дарения.
Около одиннадцати морозец окреп; мы залезли в спальные мешки, немного еще поболтали, но вскоре один из нас не отозвался, и мы заснули. Ночью, пока он мирно похрапывал, я проснулся, лежал на спине, глядя на звезды, и благодарил Бога за то, что я пошел в этот поход. Ноги не болели, я чувствовал себя сильным и здоровым. Потрескивали умирающие дрова, словно Джефи невзначай комментировал мое счастье. Я посмотрел, как он спит, зарывшись головой в пуховый спальник. Вокруг – мили и мили тьмы, и этот маленький свернувшийся калачик, плотно упакованный, сосредоточенный на желании делать добро. «Что за странная штука человек, – подумал я, – как там в Библии: кто постигнет дух человека, глядящего вверх? На десять лет я старше этого бедного парнишки, а рядом с ним чувствую себя дураком, забываю все идеалы и радости, которые знал прежде, в годы пьянства и разочарований; ну и что, что он беден, – ему не нужны деньги, а нужен только рюкзак с пакетиками сушеных припасов да крепкие ботинки, и вперед, он идет и наслаждается привилегиями миллионера в этом великолепии. Да и какой подагрический миллионер забрался бы на эту скалу? Мы взбирались целый день». И я пообещал себе, что начну новую жизнь. «По всему западу, по горам на востоке страны, по диким краям пройду я с рюкзаком, и сделаю это чисто». Зарывшись носом в свой мешок, я заснул; на рассвете проснулся, дрожа, холод камней просочился сквозь пончо и мешок, ребра упирались в сырость, худшую, чем сырость холодной постели. Изо рта шел пар. Я перевернулся на другой бок и поспал еще: сны были чисты и холодны, как ледяная вода, хорошие сны, не кошмары.
Когда я проснулся опять, первобытно-оранжевый свет струился из-за скал на востоке сквозь благоухающие ветви наших сосен, и я почувствовал себя, как в детстве, когда просыпаешься в субботу утром и знаешь – сейчас влезешь в комбинезон и можешь целый день играть. Джефи был уже на ногах и, напевая, возился над костерком. Белый иней покрывал землю. Выбежав из нашего укрытия, Джефи крикнул: «Йоделэй-хии!» – и, ей-Богу, Морли тотчас же отозвался; звук был ближе, чем вчера вечером.
– Ага, идет. Подъем, Смит, испей чайку, хорошее дело! – Я встал, выудил из спальника согревшиеся за ночь тапочки, обулся, нацепил берет, вскочил и пробежался по траве. Неглубокий ручеек был весь затянут льдом, только посредине катились мелкие бульки. Я бросился ничком и припал губами к воде. Утром в горах умыться родниковой водой – какое ощущение в мире сравнится с этим? Когда я вернулся, Джефи разогрел остатки вчерашнего ужина – они были все так же хороши. Потом мы поднялись на утес и аукались с Морли – и вдруг увидели его, крохотную фигурку милях в двух от нас, скачущую по долине камней, маленькое живое существо в необъятной пустоте.
«Вот эта букашка и есть наш друг Морли,» – прогудел Джефи шуточным голосом лесоруба.
Часа через два Морли приблизился настолько, что можно было разговаривать, и немедленно заговорил, попутно преодолевая последние валуны по дороге к нам, ожидающим его на разогревшемся солнышке.
– Дамское Общество вспомоществования отрядило меня проверить, приколоты ли у вас, ребята, к рубашкам голубые ленточки, говорят, осталось море розового лимонада, и лорд Маунтбэттен пребывает в нетерпении. Не исключено, что будут установлены причины недавних прискорбных событий на Среднем востоке, но прежде надо бы научиться ценить достоинства кофия. Сдается мне, в компании таких высокообразованных джентльменов, как вы, им бы следовало соблюдать приличия… – и так далее, и так далее, трепотня без всякой видимой причины, между ясным синим небом и камнями, старина Морли со своей слабой улыбочкой, слегка вспотевший от долгого утреннего перехода.
– Ну что, Морли, готов лезть на Маттерхорн?
– Сейчас, только носки переменю.
Вышли мы около полудня, тяжелые рюкзаки оставили на нашей стоянке, где их до следующего сезона вряд ли кто-нибудь нашел бы, и отправились вверх по осыпи, прихватив с собой лишь немного еды и аптечку. Долина оказалась длиннее, чем мы предполагали. Оглянуться не успели – уже два, солнце налилось послеполуденным золотом, ветер поднимается, и я подумал: «Господи, когда же мы полезем на гору, ночью, что ли?»