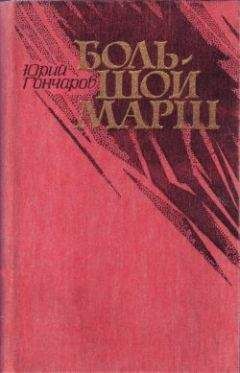Звезды медленно подвигались мимо окон, меняя свое расположение на небе. Слабый ветер коснулся вершин, листва невнятно забормотала. Казалось, слышится какая-то речь. Ее невозможно было понять, но Климов ждал, еще один наплыв ветра, посильнее, еще один всплеск шелестящего лепета – и уяснится, что хочет, старается выразить окутанный мраком лес. Потом стихло, и опять настало черное безмолвие, окропленное сверху искрящимися россыпями звезд. Тьма, звезды, бессонье вызвали в памяти Климова другую такую же звездную далекую ночь, ночь сорок второго года, когда он с частью прибыл на фронт, в задонскую степь, под Котельниково, и в темноте их вывели на передовую. Немцы наступали, это был самый разгар их победного движения в глубь страны, на Сталинград и Кавказ, они прошли уже сотни километров от тех рубежей, с которых начали, и еще нигде их надолго не задержали. Завтра они должны были наступать снова. А может быть – и этой ночью…
Но пока было тихо, они отдыхали; поев, покурив эрзац-сигареты из пропитанного ароматическими составами бумажного волокна, где-то там, в ночи, спали возле своих горячих, пропыленных танков, мотоциклов, автомашин. Не спали только дежурные, время от времени стреляя вверх яркими зеленовато-голубыми ракетами. И не спали их пулеметчики: заметив в загоревшемся свете что-нибудь на русской стороне, пропускали в том направлении одну-две очереди трассирующих пуль.
Провожатые, что вели на передовую, знали дорогу и шли быстро, – надо было идти быстро, чтобы скорее кончился шум движения, чтобы не попасть под такую пулеметную очередь наугад. А солдаты, что двигались за ними цепочкой, взводами человек по двадцать – тридцать, ничего не видели в темноте у себя под ногами; каждую секунду кто-нибудь оступался, бряцал оружием или котелком, шепотом ругаясь, кляня темноту, помогая себе матерком. «Осторожно, провод!» – предупреждали ведущие, и по цепи солдат с головы к хвосту повторялось на разные голоса: «Осторожно, провод! Осторожно, провод!»
Наталкиваясь на передних, спустились по крутому склону в овраг. Что-то слабо мерцало справа, отражая бледный свет звезд. Климов напряг зрение, разглядел, что это косые стволы больших минометов на своих опорных плитах. Около них черно бугрилась земля. Кто-то из пехотинцев споткнулся о такой бугор, ойкнул – это была не земля, спали минометчики. Разбуженный приподнялся и под глухой топот солдатских кирзовых ботинок мимо него сказал кому-то из своих вполголоса, а может – самому себе: «Опять ведут… Каждую ночь все ведут, ведут… А к вечеру сызнова пусто…»
На дне оврага было еще темней. Но в этой кромешной тьме шла напряженная суета: с расстеленных на земле шинелей старшины отпускали для взводов и отделений буханки хлеба, другие солдаты – по двое, по трое – тащили от подъехавших кухонь, слышных по звяканью поварских черпаков, фырканью лошадей, ведра с супом и кашей; связисты, устало дыша, пробегали из мрака во мрак, прощупывали провода; кто-то из них, подключившись, прозванивал линию, повторяя: «Сокол, Сокол, ты меня слышишь?»
В голове цепочки послышались новые голоса, это встретили пополнение фронтовые командиры того участка, на который прибыл взвод. На несколько минут бойцов задержали в начале подъема из оврага, посадили на короткую жесткую траву. Стал говорить не видимый в темноте человек, сказал, что он командир роты, лейтенант, назвал свою фамилию. Сейчас подымемся из оврага наверх, сказал он, это и есть передний край, по самой бровке, дальше уже немцы. Надо рассредоточиться влево и вправо, растянуться один от другого метров на десять, чтобы занять весь участок роты. Народу, скрывать нечего, мало, но надо держаться, днем подкреплений не будет, а завтра ночью, возможно, пехоту подбросят еще. Там, наверху, окопы со стрелковыми ячейками; пока темно – этим надо воспользоваться, зарыться поглубже, сделать в глубине норы на случай массированного артогня, бомбежки; у пехотинца одно спасение – глубокий окоп. Немцы пойдут часов в пять утра, после того, как выпьют кофе; стрелять по их пехоте, для танков есть ружья ПТР, сорокопятки; окопов ни в коем случае не оставлять, не выскакивать, даже если танки и бронетранспортеры подойдут совсем близко, это не страшно, артиллерия действует хорошо, вчера и позавчера их атаки отбили с большими для них потерями, отобьем и завтра. То есть – уже сегодня, поправился командир роты, сейчас уже половина первого…
Взобрались по склону на самый верх. Звездное небо опять распахнулось во всю ширь. Климов нашел Большую Медведицу, Малую, голубую искорку Полярной, ослепительный, испускавший пульсирующие лучи алмаз – Вегу. Все звезды были на своих местах, вверху, над головой, все было так, как всегда, как и до войны, в сверкании звезд были безмятежность и покой, ничем не тревожимая незыблемость вечности, и это казалось странным, невозможным, когда на земле такое – такая война, такая кровь, такая гарь пожарищ, что и в сто лет не исчезнуть этому запаху, столько у немцев уже городов, и даже Дон они уже перешагнули… И родной город Климова у них, весь охваченный огнем, второй месяц накрытый тяжелыми тучами дыма и пепла…
Фронтовой сержант, приведший взвод, тот лейтенант, что говорил на склоне, пригнувшись, сновали вдоль оврага, распределяли солдат: ты – сюда… ты – здесь… А ты давай вон туда…
В немецкой стороне, как показалось – совсем близко, резко щелкнул выстрел ракетного пистолета; над степью сверкнула, разгораясь, ослепительная, лучистая бело-голубая звезда.
– Ложись! – крикнул комроты.
Все упали на теплую дневным теплом, рыхлую землю. Звезда, повиснув над степью, горела с минуту; прострочил, промел над головами своим свинцовым веером пулемет… Вжимаясь всем телом в землю, Климов определил, что лежит на пашне, под ним, под его руками – стебли и колосья, вероятно пшеницы; вся она скошена, сбрита осколками, пулями, примята к земле взрывными волнами снарядов, мин и авиабомб.
В снова наступившем мраке Климов сполз в окоп, изломами тянувшийся вправо и влево. Немного по нему продвинувшись, попал в его угол, выдвинутый к немцам. Здесь было утоптано, кто-то уже занимал это место раньше, под ботинками Климова скрипели и звякали стреляные винтовочные гильзы, нога ударилась о каску. Что-то белело. Он нагнулся, поднял: бумажная обертка от перевязочного пакета…
Бруствер окопа был Климову по грудь. Низко. Должно быть, солдат, что отсюда стрелял и был тут ранен, не отличался ростом. Место не понравилось Климову: пуля или осколок уже пронзили здесь человека. Но другого искать он не стал, все места в окопах, в общем, одинаковы, на каждом могут убить или ранить. И каждое может оказаться счастливым. Как повезет.
Однако лучше исполнить совет командира роты: зарыться поглубже.
Прислонив в стороне к земляной стенке винтовку, Климов стал вкапываться лопаткой в самом углу окопа, прорезая в полный свой рост узкую щель. Мягкий чернозем поддавался легко, но ночь была сухая, душная. Климов сразу же взмок. Пот сбегал по лицу, капал на руки, на ту землю, что подбирал он лопатой и бросал из окопа.
Опять щелкнула ракетница, шипя, разгорелся сгусток голубоватого огня; высветилось белое, как снег, поле, черная тушь теней залила ближние воронки, длинную яму окопа. Все на передовой замерло, но едва ракета погасла, опять поспешно заработали лопаты, справа и слева от Климова послышался их глухой стук, звяканье, шорох выбрасываемой, осыпающейся по скатам брустверов земли.
Пригибаясь, в готовности каждое мгновение броситься плашмя, вдоль окопов, волоча тяжелый мешок, пробежал помкомвзвода, мальчишка-сержантик.
– Сколько гранат у тебя? – быстрым, задыхающимся шепотом спросил у Климова.
– Сколько давали – три.
Гранаты Климов положил в нишу, вырезанную в стенке своей щели.
– На еще три! – бросил из мешка Климову в руки сержант. – Патронов добавить?
– Давай!
Пяток увесистых пачек в промасленной бумажной обертке глухо грюкнулись на край окопа.
Во вторую свою пробежку по ячейкам окопавшихся бойцов сержантик разнес водку. Наливал из бидона в кружку, каждому говорил:
– Хлебни. Храбрей будешь.
Климов пригубил – и выплюнул. Водка была теплой, противной. Он пробовал ее впервые.
Шорох лопат затих, воцарилась тишина. Ничего не доносилось из оврага, как будто там совсем никого не стало. Невидимые во мраке, справа и слева в своих окопчиках ждали рассвета, сказанных пяти часов товарищи Климова по взводу, с которыми месяц назад соединило его на формировке. Первым справа – Дронов, молчаливый сорокалетний учитель из Калинина, бывшей Твери. Вторым – Желобков, электросварщик с судоверфи из Николаева, белобровый, с вмятиной и шрамом на лбу, – он уже отведал фронта, осенью, под Москвой. Третьим – Лихачев, еще никто, как и Климов, такой же юный парень, всего только и успевший в жизни, что окончить десять классов школы. Четвертым – казах Уметалиев, колхозник из-под Уральска. Утром его убило первым, миной из шестиствольного немецкого миномета. Слева от Климова поставили Храмчука, степенного украинца, продавца сельпо, которого его сосед по строю и приятель, тоже украинец, шофер Рябошапко в минуты отдыха на привалах непременно изводил одной и той же шуткой, нарочно для окружающих, чтоб все посмеялись: «А ну-ка, Храмчук, пови́дай, пови́дай людя́м, як ты их обвиша́в… Обвиша́в же, ну, кажи́? Уси ж продавцы обвишають!» Рябошапко дальше, за Храмчуком. А за ним – рабочий с Грязей, из паровозного депо, Оплошкин. В бою, что начался с рассветом, ему прострелило шею. Низко несло черный вязкий дым от разрывов, мешало видеть поле, он приподнялся из окопа – глянуть, где немцы, куда стрелять, – и прямо под пулю. Должно быть, перебило артерию – он весь залился кровью, до пояса. Санитар поволок его в овраг. Что стало с ним дальше – Климов никогда этого не узнал. Конечно, умер, с такими ранениями не выживают; уже и костей его, наверно, нет в той могиле, где его закопали, все стало прахом, землей. Помнится, он все сокрушался, говорил, не дети бы дома – и страху бы не было, а вот детей – жалко, все думается об них… Где-то, наверное, живут они, теперь уже пожилые люди, у них у самих давно уже дети, внуки того маленького Оплошкина, которому пришлось повоевать всего пять минут… Дальше, за Оплошкиным… Нет, теперь Климов уже не помнил по фамилиям остальных, кто составлял взвод. Лица помнил, а фамилии уже стерлись в памяти…