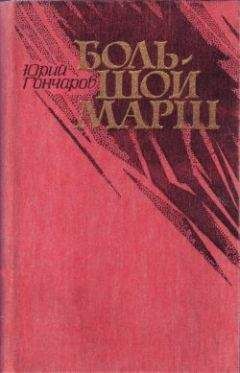Студенты поднимались с солнцем; еду готовили себе на костре, днем со старичком профессором ловили в лесу жуков и гусениц, а вечерами до полуночи бренчали на гитарах, орали песенки из репертуара Высоцкого, Окуджавы и совсем чепуху, свой студенческий песенный фольклор.
Старичка звали не по-профессорски: Кузьма Кузьмич. Между собой студенты называли его Кузя.
Нельзя было не улыбнуться, услышав это прозвище, – так подходило оно к старичку: маленький, тщедушный, как неудалый, обиженный и ростом, и силой мальчуган, розовое личико, усеянное пятаками желтых веснушек, постоянно улыбчивое выражение часто моргающих, воспаленно-красноватых глаз. В улыбке его, как и во всей фигурке, телосложении, движениях, были детскость, застенчивость, несмелость, – будто ему самому было конфузливо, что при такой внешности он, тем не менее, старик почти семидесяти лет, с ученым профессорским званием.
Кузьма Кузьмич, попросившись в дом, поставил свою раскладушку не в комнате и даже не в кухне, а в сенцах.
– Нет, нет, что вы! – замахал он ручками, решительно отказываясь расположиться по-другому. – Я сплю плохо, ночью то и дело просыпаюсь, выхожу, буду вас беспокоить. А здесь мне очень удобно, уверяю вас, это как раз самое отличное для меня место…
Раскладушка была поломанная, продавленная, на шатких ножках, – институтский инвентарь многолетней службы. Но Кузьма Кузьмич, в долгой возне кое-как ее наладив, с искренним довольством потер ладонью о ладонь:
– Вот и прекрасно, вот и отлично! Сверху свежей соломки, одеяло – и совсем царская постель…
Соломки не нашлось. Кузьма Кузьмич не огорчился:
– Ну и не надо. Можно сенца, травы. Еще даже лучше…
Сена тоже не нашлось. А травы нечем было накосить: бабка Настя накануне попросила у Климова косу.
Устройство постели для Кузьмы Кузьмича кончилось тем, что он покрыл раскладушку газетами, говоря:
– Ну что ж, поспим и так, это тоже неплохо, не на полу ведь, не на сырой земле…
Ему очень хотелось свежего деревенского молока. Климов сказал, что молоко будет, бабка Настя подоит вечером корову и принесет. Кузьма Кузьмич ожидал с нетерпением, не стал ужинать со студентами, чтобы не портить себе аппетит. Несколько раз в предвкушении потирал своими розовыми, тоже в пигментных пятнах, ручками:
– Попьем, попьем молочка!.. Люблю деревенское, из-под коровы. Это у меня с детства… Деревенское – совсем не то, что у нас в городе, в бутылках, и сравнения никакого. То разве молоко? Выльешь из бутылки – ее даже и мыть не надо…
Прождали бабку Настю дотемна, до звезд в небе, но что-то ей помешало, в этот вечер она не пришла.
– Давайте в таком случае чай пить, – предложил Климов.
– Прекрасно! – воскликнул Кузьма Кузьмич с такой радостью, будто чай был ему даже гораздо приятнее, чем деревенское молоко, которое он так пылко восхвалял. – Выпьем чайку! Крепкий душистый чай – это же замечательно!
Климов вскипятил чайник, но заварки не оказалось, он совсем забыл, что накануне истратил ее полностью.
– Не беда! – утешая Климова, сказал Кузьма Кузьмич. – Выпьем и без заварки. Кипяточек с сахаром – это очень бодрящая вещь!
Но и сахара у Климова не оказалось. Можно было взять у студентов, но они ушли на реку купаться, еще не вернулись, а в каком из их рюкзаков сахар – Кузьма Кузьмич не знал. Пришлось пить пустой кипяток. Кузьма Кузьмич был искренне доволен, прихлебывал из кружки, смакуя, приговаривая:
– Ах, хорошо! Горяченькое… Приятно! Вспоминаю свою студенческую пору, двадцать пятый год, двадцать шестой… Нэп, с ума можно сойти, всего завались, в магазинах частников – окорока, колбасы, торты, пирожные… На рынок заглянешь – там и вовсе: горами мясные туши, сало, битая птица. А живая тут же кричит, крыльями хлопает… Продавцы машут, наперебой зазывают: подходи, покупай! А в кармане – известное насекомое на аркане… Прибежишь с лекций в общежитие, зима, мороз лютый, а оно нетопленное, по углам иней; буржуечку щепками растопишь, согреешь котелок воды; он греется, а ты возле от холода приплясываешь… И вот так же, голенькую… Ах, какое блаженство!
За все дни, что длилась практика и возле сторожки стоял студенческий табор, Кузьма Кузьмич ни разу заметно не огорчился, не расстроился, а если и терял свое радостное, довольное настроение, то не больше как на минуту-другую. Во всем и при всех обстоятельствах он сохранял свой неиссякаемый оптимизм. К примеру, студентам надо было побывать на дальних вырубках. Колхоз соглашался дать машину, и Кузьма Кузьмич был в восторге:
– Прекрасно! Доедем за полчаса – и сразу же за дело!
Но к нужному времени выяснялось, что грузовик неисправен. И Кузьма Кузьмич с таким же точно подъемом воодушевлял студентов:
– Ну и отлично! Просто великолепно! Пройдемся пешком. Не надо трястись по ухабам, дышать бензинной вонью. Наедимся земляники, малины, насмотримся на красоты леса…
Палило солнце, листва, травы никли от зноя. Кузьма Кузьмич, распаренный, потный, не розовый, как обычно, а весь помидорно-пунцовый, блаженно улыбался:
– Хорошо! Люблю жаркое лето. Чтоб до самых костей пропекало! А без жары – это и не лето. Даже обидно как-то – как будто самого настоящего-то и нет…
Находили тучки, накрапывал дождь, – настроение Кузьмы Кузьмича не менялось:
– Какая прелесть – дождь в лесу! Всегда вспоминаю Тургенева – помните, какие у него великолепные описания? Живая вода народных сказок – это ведь не досужая выдумка, эта фантазия дождями порождена, их чудодейством. Как сразу все в природе оживает, молодеет… А дух-то после! Вдыхаешь – и прямо крылья растут, полететь хочется…
Казалось, такой характер могла сложить только похожая жизнь: ровная, спокойная, совершенно благополучная, без всяких потрясений.
А в действительности – вся крестьянская семья Кузьмы Кузьмича, все близкие родичи вымерли в двадцать первом году от голода в Поволжье; сын его, аспирант-историк, погиб в ополчении в блокированном Ленинграде, жена умерла после двух операций, нескольких лет мучительной болезни; у единственного близкого оставшегося человека, дочери, муж в сорок лет внезапно скончался от инфаркта, закончив, но не успев защитить докторскую диссертацию, внук, студент-физик, болен лейкемией, уже дважды обновляли кровь, теперь назначена подсадка костного мозга…
И такая светлая душа, нераздражительность, незлобивость, покладистое согласие с обстоятельствами, как бы они ни сложились, хотя бы совсем обратным образом…
Климов не удержался, заговорил про это со стариком.
– А что же делать, как иначе? – вскинул он на Климова свои красноватые, лишенные ресниц глазки, уже без всякой в них детскости, глаза очень старого, вконец уставшего, намученного человека, нашедшего для себя защиту хотя бы от неприятных мелочей повседневности. – Можно, конечно, негодовать, устраивать бури по каждому поводу. Многие так и живут. И себе бесконечные терзания, и другим возле них тошно. А можно это же самое поворачивать к себе другой, положительной стороной. По диалектике ведь их в каждой вещи, в каждом явлении две, на какую, стало быть, посмотреть, какую для себя выбрать… Ну что беситься, что пошел дождь? Все равно его не остановишь, пока весь не выльется. Так лучше насладиться той поэзией, что в этом есть… Это давно известно: чем больше запросов, требовательности, несогласия – чтоб непременно так, как хочется, как желается, и ни на йоту иначе – тем и больше горечи, разочарований, обид. Поэтому там, где не затронуты главные принципы, где можно и так и этак, как угодно, ничто от этого существенно не страдает, там – принимай, как складывается. Как получается само. Знаете, гораздо лучше выходит, от многого себя облегчаешь…
– Это что же за философия такая – пассивности, что ли, сведения человеческого «я» до крайнего минимума? – заметил Климов. – Если по этой логике – тогда уж лучше совсем от всего отказаться, все в себе полностью задушить, остановить, всякую деятельность психики, сознания, нервов. И будет совсем хорошо, наступит полное довольство, будешь жить – как в раю…
– Совсем даже не так! – возразил Кузьма Кузьмич. – Это уже абсурд. Любую здравую вещь, если проводить прямолинейно, можно довести до абсурда. Просто надо разумно расходовать свои эмоции, свои нервные клетки. Их ведь ограниченный запас. Отчетливо понимать, где уместно настаивать, побороться, а где предпочтительней удовлетвориться тем, что есть, потому что все равно никакой активностью не одолеешь… У грузовика рессора сломалась и шофер в стельку пьян, только завтра проспится. Что тут сделаешь? А вот наша уважаемая дирекция хотела в этом году практику по фитопатологии не проводить! Тут я встал на дыбы, мобилизовал всю свою активность. Знаете, каким я тигром на директора рычал? Хотя лично мне эта практика – лишняя нагрузка, без нее мне было бы только легче. Но какие же это будущие лесничие без практики по паразитам леса?