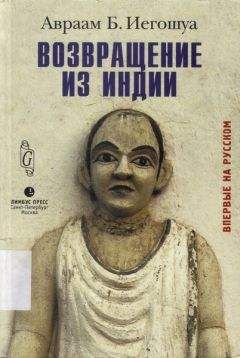В мгновение, когда я вошел в свою квартиру, я почувствовал возбуждение одиночества, витавшее над руинами моей измученной души, как если бы только здесь, среди этих знакомых стен и знакомой мебели находился истинный мир, существенный и тайный, который немедленно выявлял чью-то слабость и невозможность кому-либо оставаться с ним наедине. Хотя стрелки часов еще не достигли шести, у меня уже не оставалось сил для ожидания, и я позвонил родителям, чтобы рассказать им, как проходило мое прощание с Микаэлой и Шиви, — рассказать, чтобы одновременно услышать ободряющие слова.
Трубку на этот раз поднял мой отец, который и завладел разговором, задавая многочисленные вопросы, требовавшие исчерпывающих ответов, по возможности, как можно более детальных. Похоже, что он вовсе не собирался ни успокаивать меня, ни утешать, поскольку больше, чем кто-либо другой, переживал отъезд Микаэлы и Шиви, как если бы все мои достижения последних двух лет свелись к нулю после их отъезда. Какой-то шорох и эхо, сопровождавшие наш разговор, подсказали мне, что моя мать слушает наши речи по трубке стоящего у ее изголовья аппарата, но, к моему удивлению, она никак не обнаруживала своего присутствия. Я знал, что гнев ее был много глубже, чем у моего отца, и много более справедлив, но ее молчание стало меня тревожить, и когда я почувствовал, что разговор с отцом близится к концу, я сказал, что хочу поговорить с нею.
Она расспрашивала меня сухо и даже холодно, интересуясь тем, откуда я звоню — из больницы или из дома. Когда я сказал ей, что мое дежурство начинается в полдень, она захотела узнать, почему в таком случае я звоню им в такую рань. Значит ли это, что я, в свою очередь, так рано проснулся, или что я вообще не мог уснуть? «И то, и это, — отвечал я. — Проснулся, едва заснув, а проснувшись… — И я честно рассказал ей о своих ночных блужданиях, добавив: — Мне кажется, что мне теперь придется привыкать снова к тому, что я один». На какое-то время молчание воцарилось уже в Иерусалиме, и я услышал, как отец опустил телефонную трубку на рычаг, как если бы он понял, что мать взяла продолжение разговора на себя. А может быть, этим он выразил в своей застенчивой и тем не менее решительной манере свое мне неодобрение, поскольку никогда раньше он не заканчивал свои разговоры со мной подобным образом. Зато голос матери сразу помягчел, как если бы она тоже поняла, что означает этот отцовский жест, и она спросила, не собираюсь ли я появиться в Иерусалиме на уикэнд. Когда я произнес «да», она попросила меня не использовать для этой цели мотоцикл, а приехать на автобусе, как если бы мое расставание с Микаэлой сделало мое существование более подверженным опасности и уязвимым. «А если тебе захочется увидеть своих друзей, ты в любую минуту можешь воспользоваться отцовской машиной», — добавила она, чтобы успокоить меня и поддержать мои намерения, после чего быстро положила трубку, словно с такого расстояния почувствовала, как на меня накатывает сон.
Я отключил телефон — отчасти потому, что я уже поговорил с родителями, но также потому, что я знал — если Микаэла будет звонить перед вылетом, она позвонит не мне, а родителям; она знала, что их огорчения много глубже тех, что она оставила в собственной квартире, где в эту минуту я начал задергивать шторы, чтобы не позволить лучам света потревожить мой сон, уже одолевавший меня. Я был убежден — чем надежней я отгорожусь от всего окружающего меня мира, тем меньше будет моя тревога. И в самом деле — невероятный по своей силе сон наконец одолел меня, настолько, что ничто не в силах было потревожить опустившуюся на меня завесу, как если бы я лежал не в своей постели посреди шумного и делового Тель-Авива, а в жестяном корыте больничного морга. Больница также исчезла из моего сознания — впервые с тех пор, как я начал работать там, и после непрерывных двенадцати часов сна я проснулся, чтобы обнаружить, что уже шесть часов вечера — намного позже начала моего дежурства. Меня, скорее всего, пытались разыскать врачи, прибывшие в операционную, но что они могли предпринять против отключенного телефона? Нашли ли они кого- нибудь мне на замену? Мысль о том, что кто-то может оказаться в операционной на месте, принадлежащем мне, днем раньше показалась бы мне невыносимой при всем известной моей пунктуальности; сейчас же я, абсолютно расслабившись, лежал, не испытывая за собой особой вины. Наоборот, я испытывал давно забытое чувство облегчения. Как если бы не только Микаэла и Шиви исчезли из реального мира, но и сам я тоже.
Правда, имело место противоречие между удовольствием, которое я испытывал от этого исчезновения, и тревогой, вызванной одиночеством. Но я знал, что существует человек, единственный в мире, способный совершенно правильно понять создавшуюся ситуацию. Поэтому я не выключил то слабое освещение, неясно обрисовывавшее знакомый мне мир собственной моей квартиры, заменявший мне лекарства, но в то же время заставлявший меня чувствовать себя так, словно в моем теле не доставало красных кровяных телец.
Тем не менее волнение, вновь овладевшее мною, было столь велико, что я вновь подключил телефон, чтобы позвонить Дори в офис и потребовать права звонить ей не только в качестве любовника или случайно подвернувшегося под руку врача, но и как арендатора, который звонит своей квартирной хозяйке в минуту, когда ему требуется помощь. Дори только что вышла в кафе с одним из приятелей, и секретарша, которая не могла сообщить мне, когда она хотя бы приблизительно вернется, исключительно вежливо спросила меня, кто я и чего хочу. Я согласился назвать себя и попросил передать миссис Лазар, что жду ее звонка.
— Моя жена с дочерью прошлой ночью улетели в Индию, — сказал я секретарше. Тишина на другом конце провода означала, что секретарша совершенно не представляет, что ей делать с этим сообщением, и тогда я грубо добавил: — А я болен и лежу в постели.
Странная эта ложь, столь бойко слетевшая у меня с языка — с языка человека, который всегда гордился тем, что никогда не врет, — обрушилась на меня с такой силой, что я ощутил необходимость вновь отключить телефон, чтобы не быть вынужденным подкреплять первую мою ложь еще одной. А поскольку я объявил себя больным, то не сомневался, что Дори свяжется со мной, не зная, что в этой ситуации я хочу от нее не присмотра, но любви. Понял я также и то, что вырвавшаяся сейчас у меня ложь способна отравить чистоту наших отношений, — точно так же, как мои отношения с больницей, если я, позвонив туда, стану объяснять свое отсутствие той же причиной — шесть часов спустя после того, как я должен был появиться возле операционного стола…
* * *
Я поднялся и выключил свет — так, чтобы быть в состоянии раствориться в темноте, отгородившись ею от моего сокровенного мира, в котором удовольствие от одиночества росло пропорционально расстоянию между мною и моей женой с Шиви, удалявшихся от меня. Но сон переполнял меня настолько, что я не в состоянии был закрыть глаза в абсолютной темноте, которую сам же создал вокруг себя, попросту вновь погружаясь в дремоту. После долгих часов, проведенных в службе скорой помощи, приучившей меня засыпать и просыпаться в считанные секунды, я утратил невинность молодости, позволявшей мне засыпать когда попало и где попало. Совсем наоборот — после десяти часов непрерывного сна мое сознание начало приобретать качества такой чистоты и ясности, какими обладает, пожалуй, лишь ангел, скользящий в небесах: ни голод, ни жажда уже не беспокоили меня.
Я ощущал щетину, выросшую на подбородке с прошлого утра, и задавался вопросом, придет ли в голову Дори искать меня здесь. Если я на самом деле заболел, я не мог находиться на больничной койке или в доме моих родителей; единственным местом, где я мог находиться, была именно эта квартира, которую она предназначала для сдачи в аренду, хотя бы это и не была по- настоящему ее квартира. Что, разумеется, никак не обязывало ее любить меня, но, с другой стороны, должно было напомнить, что именно здесь она согласилась выслушивать мои любовные признания, которым внимала, не прерывая их, закончив тем, что оказалась со мною в постели.
А пока что мозг мой продолжал аккумулировать чистоту и ясность, в то время как я сам преисполнялся верою в то, что и на расстоянии я могу влиять не только на ее мысли, но и на ее холеное тело, чьи милые, спрятавшиеся в укромных местах созвездия веснушек я еще не кончил изучать. А потому, проводив последнего клиента, она должна будет подняться со своего кресла, набросить на себя синюю бархатную тунику и, одарив улыбкой каждого из остающихся в офисе сотрудников, спуститься к выходу, на последней площадке раскрывая свой зонт, даже если с неба еще не упало ни капли, — раскрыть его для того лишь, чтобы под его защитой преодолеть те несколько метров, что отделяли ее от большой машины, припаркованной на соседней улочке. Затем она бросит взгляд на зеркало заднего вида и снова улыбнется, пытаясь в то же время понять, свободен ли выезд; может быть, именно в эту минуту она вспомнит странное мое послание, переданное секретаршей, а затем, держа свою маленькую ступню на тормозе, вздохнет, и приступит к макияжу, доставая все необходимое из большой сумки, лежащей позади нее на заднем сиденье, и проводя тонкие линии вокруг глаз, после чего настанет черед носа и щек. Но вместо того, чтобы между бровей нарисовать третий глаз, который позволил бы ей постичь окружающую ее действительность, она предпочтет одарить своей улыбкой зеркальце, прикрепленное в машине над лобовым стеклом, надеясь — и не без оснований, — что зеркальце ответит ей такой же улыбкой, дав ей ощущение радости. И только тогда сможет она чуть-чуть расслабить ногу, лежащую на тормозе и влиться в середину уличного движения; она проделает это очень медленно, нисколько при этом не думая о машинах сзади нее.