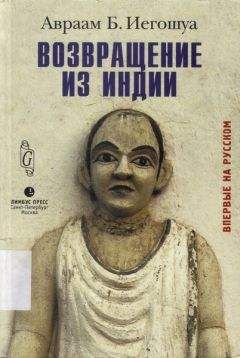«Но я хочу быть одна». Поразительный этот ответ она прошептала с каким-то даже неистовством; в глазах ее блеснула ярость — блеснула и исчезла вместе со светом, который заполнил не только комнату, но и всю квартиру, отразившись во всех окнах окружающих домов. А потом сила света как-то внезапно вдруг ослабла, и я услышал нечто вроде приглушенного вздоха — среднее между возбуждением и печалью, заставившее меня произнести с улыбкой, в которой была огромная доля сочувствия. «Но ведь ты не можешь…»
— Потому, что по-настоящему я никогда этого просто не хотела, — ответила она с поразительной уверенностью, как если бы опустившаяся неожиданная темнота позволила ей объяснить всю ее жизнь, как производное от силы воли. И ничего удивительного не было в том, что когда я отправился на поиски фонаря или хотя бы свечи, она сказала: — Зачем? Брось это. В любом случае скоро наступит рассвет.
Достав из сумочки тонкую сигарету, кончиком ее, осветившим окружавшую нас тьму, что выглядело как попытка разглядеть самые удаленные предметы в этой комнате, она заговорила не только о том, что нам предстоит неизбежное расставание, но и о необходимости, прямо-таки долге, каждого из нас поступить так, поскольку оба мы утратили доверие и потеряли защиту наших супругов. Теперь, когда сердце человека, взявшего на себя обязанность заботиться о ней, надорвалось, не выдержав постоянного напряжения, а сам этот человек был мертв, она чувствует, что тайные отношения, возникшие между нами, призванные облегчить ее ощущение удушья от его безграничной и сверхтребовательной любви, она готова признать и поверить в то, что душа Лазара и на самом деле нашла свою новую жизнь в теле человека, сидящего сейчас перед нею.
Когда я услышал эти слова, произнесенные устами той, что знала его лучше, чем кто-нибудь на свете, я не мог более сдерживать себя, а потому я встал с места, движимый сознанием того, что, как свободный человек, могу претворить в жизнь все мои надежды, причем не только связанные-непосредственно с нею, но и имеющие отношения к больнице, более того — к любой ситуации, которая могла бы возникнуть в моей жизни, как если бы передо мною раскрылись просторы не только города или страны, но и всего окружающего мира, освещаемого самыми яркими звездами вокруг нас и над нами. Но Дори, бесспорно так же почувствовавшая силу ужасающей свободы, желающей опять поработить ее, поднялась вместе со мной и выкрикнула с яростью, в которой я различил нотки близящейся истерики:
— Нет! Стой там и не подходи… Не надо ко мне прикасаться. Я… не хочу этого. Это невозможно. Эйнат знает о нас. Это ужасно. Ты должен отпустить меня… дать мне уйти. Скажи себе: «Ее нет. Она ушла. Она ушла, чтобы соединиться со своим мужем в мире мертвых».
В пятницу вечером, сухим и ясным зимним днем, путешествие на самом верху двухэтажного автобуса, движущегося из Тель- Авива в Иерусалим может показаться не вполне реальным мотоциклисту, привыкшему нестись много ниже, по самой поверхности земли. Такое передвижение скорее всего покажется ему неспешным плаваньем, разворачивающим перед ним картины холмов и лесов, точно так же, как продавец в лавке тканей мягко разворачивает перед покупателем штуку материи. Что до меня, мне было приятно, что я держу слово, отказавшись от рейда на моем мотоцикле, хотя мне и хотелось испытать его возможности на крутых улицах, ведущих к родительскому дому. Удобное путешествие с его приятными воспоминаниями о езде на английских двухэтажных автобусах призвано было смягчить и облегчить горечь моих мыслей.
Я проиграл сражение за свою любовь. Насколько быстрым и великодушным был ее ответ на мое первое признание в любви, настолько резкой и упрямой была она в этот раз, не разрешив мне далее приблизиться к ней, словно она опасалась за свою жизнь. Даже темнота, окружавшая нас, казалось, призвана была помочь ей в ее попытках избежать моих прикосновений. А когда я, несмотря на ее возражения, настоял на том, чтобы снять покрытый пылью подсвечник, остававшийся стоять на полке с давних еще времен ее матери, и зажег два толстых красных огарка, я с тревогой увидел в розовом пламени свечей, что лицо ее, хотя и раскрасневшееся, было твердым, как если бы битва за то, чтобы расстаться со мною, потребовала от нее мобилизации всех ее сил. Чувство острой жалости к ней на миг пронзило меня. Но я, оцепенев, не издал ни звука, с тем чтобы ей было легче меня оставить.
Когда мы добрались до центральной автобусной станции на окраине Иерусалима, я не обнаружил на остановке никого, кто собирался бы ехать в нужную мне сторону. Похоже было, что я опоздал на последний автобус. И хотя я, разумеется, мог бы позвонить домой и попросить отца, чтобы он приехал и забрал меня, я предпочел сесть на автобус, идущий к центру, с тем, не в последнюю очередь, чтобы отложить трудную встречу, ожидавшую меня. С того самого вечера, когда я, не подумав, признался во всем моей матери, я больше не встречался с нею лицом к лицу, а наши телефонные разговоры стали деловыми и короткими. Даже прощание моих родителей с Микаэлой и Шиви происходило без меня.
Впервые в моей жизни мне было страшно идти домой. Двигался я неторопливо, срезая углы на маленьких улочках, о которых успел уже забыть, хотя прежде, в течение многих лет, проходил здесь пешком, а теперь удивлялся, видя огромное количество верующих, одетых в тяжелые пальто, которые исчезали в дверях частных строений, с приходом пятничного вечера превращавшихся в переполненные молящимися маленькие синагоги. Еще раз осознал я, как с каждым годом суббота[5] все явственнее накладывает свою руку на Иерусалим, в отличие от Тель-Авива, где она опускается на город тончайшим покрывалом тишины, начиная с верхушек деревьев, как мне не раз приходилось наблюдать из окон квартиры Дори. И хотя она тоже была верующей (а верила она в то, что, проявив должное упорство, она в конце концов добьется права остаться в одиночестве после смерти, позволившей ей вырваться из сумасшедшего любовного урагана), я абсолютно точно знал, что в этот момент наступающей темноты она не пребывала в вожделенном одиночестве, но была окружена всеми членами ее семьи — ее матерью, ее сыном-солдатом и, может быть, даже Эйнат, с которой мне следовало заключить мир; все были здесь, в ярко освещенных комнатах, помогая ей готовить ужин.
Полный тоски по городу, который я покидал, я вошел в дом моих родителей, увидев остатки субботних свечей, еще тлеющих в двух старинных серебряных подсвечниках, стоящих, как обычно, по разным концам стола, который в недалеком прошлом был окружен пятью стульями, включая высокое креслице Шиви. Но этим вечером стол снова вернулся к тому виду, который имел в то время, когда я был еще холостяком — три стула, напротив которых на столе знакомые мне по прошлым годам бледно-синие, довольно унылого вида тарелки.
Я пребывал в известном напряжении ввиду предчувствуемой встречи, зная, что и родители боятся ее из-за накопившихся в их сердцах претензий ко мне. Поскольку они до конца не были уверены, что я сдержу свое обещание и приеду автобусом, моя задержка добавила им тревоги, которая и без того постоянно висела в воздухе со времени отъезда Микаэлы и Шиви. Хотя первое извещение о том, что они благополучно приземлились в Индии, уже было зафиксировано на автоответчике, оно было слишком кратким, чтобы удовлетворить моего отца, который беспокоился обо всем касавшемся Шиви больше, чем мать. Будучи человеком застенчивым и скромным, он никогда не перекладывал возникающих проблем на ее плечи и не усложнял ничью жизнь своими чувствами. И тем не менее с рождением Шиви в его сердце поселилась постоянная тревога за нее, которая приобрела вид глубоко скрытой и несвойственной ему агрессии, направленной против меня, особенно после бездумного, как ему казалось, разрешения увезти любимую его крошечную внучку в это безответственное путешествие. И хотя моя мать — которую никто бы не назвал человеком излишне эмоциональным и чье отношение к Микаэле и Шиви было всегда прозаичным и уравновешенным, не раз и не два пыталась отвлечь его мысли от подобных тревог, взывая к его трезвому уму и прибегая к доводам логики, успеха она не достигла. Уныние и депрессия, обрушившиеся на нее после моего столь поразившего ее признания, суть которого она любой ценой решила утаить от моего отца, похоже, удерживали ее и от попытки прийти мне на помощь по той простой причине, о которой сейчас я раз за разом пытался убедить моего отца — что Микаэла была вправе увезти своего ребенка туда, куда она считала нужным, включая Индию. Но этот аргумент не в состоянии был рассеять мрачную атмосферу вокруг обеденного стола. Ни сдержанность, присущая моим родителям, ни хорошие манеры, ни обязательное чувство юмора — черта, неотъемлемая от характера истинного англичанина по праву первородства, — ничто не могло эту атмосферу рассеять.