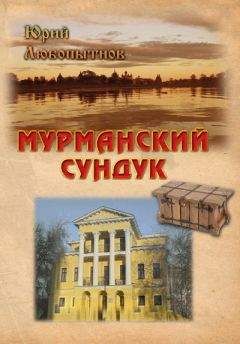- Припекает. Никак гроза будет…
Он не ошибся. К вечеру небо затянуло сероватой плёнкой. Эта дымчатая полоса стояла на горизонте часа полтора без признаков движения, только густела, наливалась синевой. Воздух был душный и тяжёлый, деревья притаились, не качали ветками, и не шелестели листвой. Небо насупилось, понизло и вокруг посерело: и крыши домов, дорога, даже штакетные палисадники стали серыми и воздух, казалось, посерел. Духота стояла невообразимая. Оставаться в доме было сверх моих сил. Я вышел и сел на лавку у палисадника. Было тихо. Поселковская жизнь всегда замирала к вечеру, а в ожидании грозы посёлок успокоился ещё быстрее. Даже ребятишки не гоняли на велосипедах по тропинке.
Быстро темнело. От недальнего пруда тянуло запахом застоявшейся воды и тины, прелых водорослей. Турчали лягушки. Птицы носились низко, не раскованно, как днём, а беспокойно, ныряя с высоты вниз, а потом вновь взмывая вверх.
И тут я услышал певца. Его тенор я не мог спутать с другим.
Ах ты, ду-ушечка,
Красна девиц-а.
Мы пойдём с то-обой
Разгуляемся-я…
Вдоль по бере-е-жку-у
Волги матушки…
Изумительного оттенка голос брал за живое, казалось, проникал в сокровенные уголки души и оставался там, пробуждая томительные чувства. У меня защемило сердце, стало одиноко и неуютно на скамейке под грозовыми тучами, как будто я сиротой остался один одинёшенек на целом свете. А голос плыл над окрестностью. В нём было столько неизбывной тоски, что у меня невольно повлажнели глаза.
Певец затих на полуслове, и я подумал, что сегодня его больше не услышу. Но ошибся. Он снова запел. Голос окреп, стал мощнее, казалось, что певец марширует под звуки оркестра.
Una mattina, mi sono alzato
o bella ciao, bella ciao,bella ciao, ciao, ciao
Una mattina mi sono alzato
e ho trovato l, invasor
O patigiano portami via
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Человек шёл с речки и пел. Я сбежал в овраг и на узкой серевшей тропинке увидел мужчину, чуть не налетев на него. Он от неожиданности оборвал песню и уставился на меня, сняв с плеча мокрое полотенце. Я растерялся и пробормотал:
— Добрый вечер!
— Бонжорно, — машинально ответил он, находясь ещё под впечатлением песни. Провёл рукой по лбу и произнёс: — Поркало мадонна! Как вы меня напугали…
— Простите, — промямлил я.
Так мы несколько секунд стояли в растерянности друг перед другом, а потом мужчина сказал:
— Давайте знакомиться. Раз мы столкнулись…
Это был человек среднего роста, крепкого телосложения и совершенно лысый, только у висков да на затылке росли седые, коротко постриженные волосы. Лицо его было из тех, которые с первого раза не запоминаются, но было наполненно живой краской, одухотворённостью. В эту минуту оно было грустным или усталым. Он крепко пожал мне руку. Пожатие было сердечным.
Так я познакомился с Павлом Егоровичем Слепцовым. Стали встречаться, когда он приезжал на дачу. Тогда-то и услышал я от него историю, похожую на подобные истории, происходившие в годы войны с фашистами, но которая имела свой неповторимый колорит и окраску.
В тот вечер мы сидели у него на террасе в его половине большого дома, вторая часть которого принадлежала младшему брату, и разговаривали. Я раньше порывался его спросить, не пел ли он в театре, но не решался. А тут спросил. Он ответил не сразу. Подумал, а потом неожиданно сказал:
— Выпить хотите?
Я опешил. Он не стал дожидаться ответа, и сказал:
— Выпьем, — и с этими словами принёс пол-литровку, поставил на стол, достал из холодильника тарелку солёных грибов, огурцов, нарезал хлеба, налил в стопки, будто спешил, чокнулся:
— Примем…
Откинулся на спинку плетёного кресла. Закинул ногу за ногу.
— В плен к немцам я попал в первые месяцы войны. Был в концлагере на Холодной горе в Харькове… Как-то так получилось, что мы, несколько человек, — любители художественной самодеятельности, — объединились в группу, были среди нас и профессионалы, в основном, музыканты из армейских частей. Пели русские песни. Получали за это дополнительную баланду, делились с товарищами.
О нашей самодеятельности стало известно командующему 2-м воздушным флотом гитлеровцев генералу Рихтгофену, и он решил создать хор подобный хору донских казаков из эмигрантов, которым руководил Жаров. В лагерь прибыл немецкий музыкант обер-фельдфебель Фишер, отобрал певцов и музыкантов и под конвоем увёз в Мариуполь.
Первый концерт был дан для командиров частей 2-го воздушного флота. Высокомерные фашистские вояки азартно аплодировали унтерменшам. Наш хор стал выступать в немецких частях.
Потом Рихтгофена перевели в Италию. Наш хор вместе с имуществом и личными вещами генерала 4-х моторным Юнкерсом был доставлен на аэродром Шампиньо под Римом. Поселили нас в городе Фраскатти в 18 километрах от столицы. Мы давали концерты и для немцев, и для местного населения. Простой народ симпатизировал нам. До конца жизни не забуду концерт на площади города Альбано. Тогда даже остановилось трамвайное движение.
Он снова разлил водку в стопки.
— Всё это время мы старались наладить связь с местным партизанским движением, но нам это не удавалось. Только в 1944 году мы перешли в партизанский отряд на горе Монте-Бальдо.
На минуту он задумался, потом продолжил:
— Через местного жителя нам было сообщено, чтобы мы пришли в местную тратторию. Это ихний трактир или кафе… Я с приятелем ушли из расположения немецкой части, в которой содержались на довольствие, и пришли в указанное место.
Хозяин налил нам вина и поставил на один стакан больше. Было условлено, кто подойдёт и выпьет этот стаканчик, тот наш проводник. Мы ждали этакого бодрого крепыша, а к столу подошёл седой старик, слепой на один глаз. Выпил и сказал:
- Адьямо, рогацци! Идите, ребята!
Мы пошли по узкой улочке за ковылявшим стариком. В переулке он остановился и сказал:
— Идите вон за той старухой.
Старуха провела нас километра два в гору и ушла, сказав: «Ступайте за той девушкой».
Впереди нас шла девушка. На ней была чёрная юбка и розова блузка. Шла она не оглядываясь и только когда отошли на значительное расстояние и город пропал вдали, она остановилась и стала то ли нас, то ли ещё кого-то поджидать. Мы подошли к ней. Это была симпатичная, стройная, с каштановыми волосами и чёрными глазами и белозубой улыбкой девушка, лет восемнадцати, не больше. Мы с интересом глядели на неё, она на нас. Из-за поворота тропинки вышли двое мужчин и провели нас к командиру партизанского отряда. — Широкая улыбка тронула губы Павла Егоровича. — Так я познакомился с Лючией…
Меня, ещё двух партизан и Лючию часто посылали в разведку: разузнать, как охраняется тот или иной объект, какой эшелон ушёл со станции и какой пришёл и другие сведения, нужные для партизан. Я плохо говорил по итальянски, поэтому изображал в необходимых случаях, когда немцы проверяли документы, глухонемого и помешанного, что, как отмечали товарищи, у меня неплохо получалось и иногда в свободное время у костра я забавлял их, кривляясь, жестикулируя и делая гримасы, вызывая взрывы гомерического хохота. Обыкновенно Лючия с одним из сопровождавших её итальянцев приходила в город, общалась с жителями, выведывая нужные сведения. А я с товарищем ждали их где-либо на задворках, прячась в винограднике или за валунами. Мы с Лючией стали встречаться все чаще и чаще и наше партизанское товарищество переросло в дружбу.
Как-то сидели мы с напарником в винограднике, поджидая ушедших на задание Лючию и Франческо, молодого шестнадцатилетнего парнишку. Они давно должны были вернуться, но их всё не было. Уже смеркалось, когда прибежал растрёпанный и запыхавшийся, сам не свой, Франческо и рассказал, что его с Лючией схватили немцы, но ему удалось бежать.
В отряде были очень обеспокоены этим событием. Удалось узнать, что Лючию держат в подвале бывшего особняка местного богача, превращённого немцами в тюрьму. Её допрашивают и должны вот-вот перевезти в немецкий штаб, располагавшийся в другом городе. По пути следования мы и должны были освободить Лючию. Однако этому плану не дано было осуществиться, потому, что осуждённые из тюрьмы должны были отправляться вместе с большой колонной живой силы и техники немцев. Проводить операцию партизанам при такой армаде было бы безрассудно. Джани, командир отряда, принял решение атаковать тюрьму. Она была обнесена забором с колючей проволокой, с въездными воротами, где стоял часовой при шлагбауме. Ещё один караульный стоял у двери снаружи здания. Было ещё с десяток охранников и надзирателей, располагавшихся в караульном помещении внутри.
Немцы несли здесь службу ни шатко и ни валко: ходили в самоволки, доставали вино и частенько попивали. Мы им на этот раз помогли в этом. В назначенный для операции день их посланный загрузился вином под завязку, на халяву, как теперь говорят. Вечером они начали возлияние и вскоре были навеселе. Причастился и часовой у ворот, тем самым притупив глазомер и внимание. Его броском ножа в горло сразил Фёдор Рюмин, бывший циркач из Новосибирска, большой виртуоз своего дела… У нас отряд был интернациональный, и часового у двери сняли поляк Сташевский и белорус Пашкевич. Открыв ворота, наша группа бросилась на приступ караульного помещения. Застигнутые врасплох караульные, охмелевшие, ничего не понимающие, не оказали особого сопротивления. Мы бросились по коридору, где слева и справа были сооружены камеры. Сташевский открывал их отобранными у надзирателей ключами. Я нёсся как ошалелый и орал: