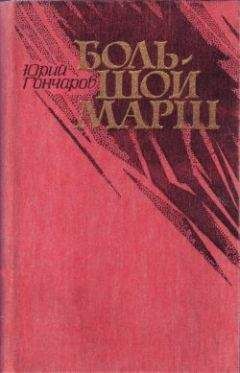Уезжая в город, Кузьма Кузьмич оставил Климову все свои бритвенные лезвия, мыльный крем, пузырек с диметилфталатом от комаров, солнцезащитные очки, которых не было у Климова. И еще – память о своих привычках, свой девиз: если неодолимо – не рвать себя понапрасну, принимать, как складывается…
Климов думал о себе, своем положении, которое даже неизвестно, как точно назвать, о Валентине Игнатьевне, – как же все-таки дальше? – и слова старика каждый раз всплывали у него в сознании. Суметь бы так – и, наверное, действительно «вышло» бы легче… Но вот как ему это суметь?
Из первой же зарплаты Климов послал домой сорок рублей. Сначала планировал купить в сельмаге кровать с матрацем, надоело мучить свои бока на жестких скамьях, примус, чтоб не разжигать печку из-за стакана чая или воды для бритья, но не терпелось поскорее помочь деньгами, казалось, они совершенно необходимы там, дома, и намеченные приобретения Климов решил отложить на потом. Отослав перевод, Климов испытал отрадное удовлетворение, что исполнил свое обещание, укрепил в себе чувство, что семейная связь сохраняется: стало быть – главное у него есть, главное в порядке. Ну, а все остальное – это уже не так важно…
Кончался август. Ночи были смолисто-черные, звезды срывались с вышины и, прочертив косой, тут же исчезавший след, вонзались в макушки леса вокруг поляны с домиком кордона.
Намаяв днем тело, ноги до свинцовой тяжести, Климов быстро засыпал, а через час просыпался и лежал до рассвета с открытыми глазами, в тишине, слыша только редкий крик ночных птиц да шум собственной крови в ушах. Сердце глухо ныло, может – просто болело, а может, это была тоска, что подспудно все время съедала Климова. В городе, задумывая свой «Кавказ», он представлял, что вот он оторвется от всего, что стало мукой, терзанием, покинет этот сдавивший его круг, отдышится – и обязательно придет внутреннее обновление, хотя бы – равновесие духа, он снова обретет под собой опору вместо того зыбкого и качающегося, как болото, что стало у него под ногами. И вот он вроде бы вырвался, огляделся, отдышался – и что же? Внутреннего равновесия нет, и опоры твердой нет, чтобы не просто механически, а хоть с каким-то смыслом идти из одного дня в другой, мысли такие же безрадостные, ничего не сулящие, и все об одном и том же – о старости, которая только и есть у него впереди, о том, что здоровье и силы его будут убывать, и если он проживет даже еще двадцать лет, то все равно это будут годы старости и ничего другого, постепенной утраты самого себя, всего, что еще имеешь и можешь…
Начиналось утро, светлело и теплело вокруг, уходили из леса тени, серые, безжизненные краски, и вместе с этими переменами светлело и теплело в Климове. Но наступал вечер, быстро превращался в ночь, и опять хмурые думы и тоска со всею давящей силой наваливались на него, словно бы выползая с сумраком из каждого куста, из каждого угла его неуютной лесной сторожки…
Он совсем забыл, что близится день его рождения, и вдруг вспомнил, и весь наполнился волнением, тревожным ожиданием: вспомнят ли об этом дне дома, что предпримут, придет ли хотя бы поздравительная телеграмма.
Седьмого сентября он поднялся на ноги затемно, – не лежалось. Чтобы как-то потратить время, не стал умываться возле колодца, с полотенцем, мыльницей пошел к реке.
Ее кутал серебристый туман. На плёсе, где купались студенты, приезжавшие с Кузьмой Кузьмичом, от шагов Климова взорвалась крыльями по-осеннему тяжелая утка. Но далеко отлетать не стала; касаясь хвостом и перепончатыми лапами воды, растянув по ней прерывистую дорожку, перенеслась лишь на другую сторону плёса, в камыши.
Климов не спеша умылся тепловатой, припахивающей тиной водой, постоял на берегу. Сколько же красоты, сколько дивного, величавого на свете, живительно трогающего душу, нужного ей, как кислород телу, – хотя бы вот этот речной медлительный, сонно клубящийся туман, жидкими прядями всплывающий над плёсом, предвестник тихого, кроткого утра, или вон те развесистые ветлы, слабо прорисовывающиеся сквозь него на другом берегу, за камышами… Стволы дуплисты, стары, но какая гордая у них осанка, как вольно простерты ветви, сколько мудрого в них спокойствия, – будто стоят они так неисчислимые века, вся земная история протекла мимо них, всему-то в мире знают они подлинную цену и место, и что-то еще такое, что никогда не поймет и не постигнет людской суетливый род… И как же мало было в его жизни таких утр, такой красоты, всё съел город, спешка, сутолока, служба, которая заслоняла от него всё… Постоянно бежал, опаздывал, не успевал, постоянно плечи давил груз несделанного, задолженного, ни одного воскресенья не провел в полном отдыхе, с чистой, свободной головой, так, чтобы хотя бы час-другой не посидеть над казенными бумагами: всегда надо было что-то просмотреть, подогнать, набросать черновики. Казалось, это главное, это – дело, а остальное – так, необязательная мелочь, когда-нибудь потом… А можно и вообще пренебречь, и не будет никакой потери…
Беспокойство уже теребило его, он пошел назад.
Первую почту из райцентра привозят в десять. Пока разберут, рассортируют содержимое мешков – половина одиннадцатого. Телеграммы же поступают в любое время, по телефону. Но идти все равно надо не раньше первой почты, – вдруг ему не телеграмма, письмо?
Но вытерпеть до половины одиннадцатого Климов не смог, пришел в деревню около десяти. Чтоб не торчать на почте, завернул к магазину, в котором едущие мимо на колхозных машинах, под плакатом, извещавшим, что продажа водки с одиннадцати, совали продавщице Клавдь Иванне комки рублевок и просили за три шестьдесят две, одни – напористо, на басах, другие – заискивающе, жалостно. Не действовало ни то, ни другое, дородная Клавдь Иванна уже дважды была под увольнением за нарушение правил торговли, едва спаслась, и теперь с пьяницами была тверда как сталь, исполняла закон непреклонно, чтоб не потерять своего золотого места. Климов уже знал, чем кончатся эти дебаты с неподатливой Клавдь Иванной: половина жаждущих уедет, матерясь на чем свет стоит, а остальные как привязанные проторчат у магазина до положенного часа. Там, где их ждут, где они нужны, задержка будет объяснена всегдашними шоферскими причинами: искра пропала, баллон спустил…
Завпочтой Дуся Скворцова, во все лицо, душевно улыбнувшись Климову, как она встречала всех местных, к кому относилась с расположением, подала ему газеты, на которые он подписался: «Известия» и районную «Заря коммунизма».
– Мне больше ничего? – спросил Климов. – Писем, телеграмм нет?
– Пишут! – бойко ответила Дуся Скворцова.
Вторую почту из районной конторы в деревню привозили в три. А в пять почта уже закрывается.
Около пяти Климов пришел снова. Было почему-то неловко показать свое настойчивое ожидание, и Климов протянул Дусе двадцать копеек:
– Забыл прошлый раз конверты купить.
Дуся отсчитала ему четыре конверта, случайно оказавшихся будто специально для него: с шишкинской «Корабельной рощей» и призывом под картинкой: «Берегите леса от пожаров!» Климов повернулся к двери и, как бы между прочим, уже от самого порога спросил:
– А вторая почта была?
– А как же!
– Мне – ничего?
– Пишут, обязательно скоро получите! – Дусе никогда не надоедало повторять эту свою любимую шутку.
Обратно в лес Климов не шел, а брел. В сторожку не хотелось – видеть ее унылую пустоту, темные от сырости углы, горбатый, щелявый пол.
Он был уже на опушке, и вдруг его пронзила догадка, вместе с удивлением, как же он не сообразил раньше: это потому нет ему ничего, что приедет Лера. Жена – нет, даже вообразить такое нельзя, а дочь – ну конечно же, это ее сюрприз для него! Она ведь так любит устраивать неожиданности. Студенткой-третьекурсницей поехала на Майские праздники к подруге в Симферополь, он и Валентина Игнатьевна огорчились, что дочь бросает их одних, а она вечером первого мая вдруг прилетела с букетом роз, бутылкой крымской мадеры. Задумала этот номер еще дома – удивить и порадовать родителей. Помладше, школьницей, выкидывала такие трюки: приходила с занятий унылая, губы надутые; мать наливает обед – не садится; начинаются тревожные расспросы: не больна ли, что случилось? Отвечает: по сочинению «двойка». Охи и ахи, как же так вышло, за что, за какие ошибки? Достает тетрадь. А за сочинение – пятерка.
Климов, разом взволновавшийся, заспешивший, свернул на тропу к полустанку. Первый предвечерний поезд совсем скоро. Потом будут еще два. Но Лера, вероятней всего, приедет именно с этим. Он немного неудобен для нее, надо отпроситься с работы в половине четвертого, но зато он приходит еще в совсем светлое время, и до его сторожки можно дойти тоже еще засветло. Лера это знает. В письме, что послал он домой в первые же дни, он на всякий случай сообщил о всех трех поездах, пометил, с каким удобнее к нему ехать, описал лесную дорогу до кордона. Все может статься. Вдруг вздумают его навестить…