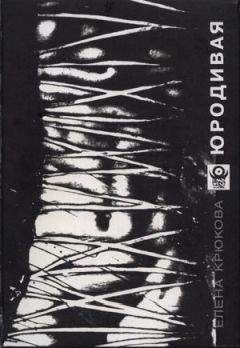Сидит на снегу — ноги крендельком. Лапку тянет.
— Подайте, люди добрые!.. Я за вас помолюсь.
Старуха, накрест перевязанная шалью, подходит к ней, сидящей, жалостливо горюнится, плачет. Эк тебя, девушка, сподобило!.. И ни кола у тебя, ни двора?.. Иди ко мне жить. У меня кошка, внучка немая, после скарлатины оглохла и онемела… война, стреляют, страшно, втроем собьемся в кучку, веселее будет… Спасибо, бабушка! Я волю люблю. Я привычная. Снег-мороз мои голые ноги терпят. Волосы ветер любят. Видишь, какие густые. А сама пошто по городу бродишь?.. На площадях сидишь днем и ночью?.. Бабушка, я Человека одного ищу. Бога своего. Я Его ищу, нахожу и снова теряю. Видно, грешница я великая, что Он ко мне насовсем не может спуститься; а я, как мать — плод свой, Его в сердце ношу. Ну, да Бог с тобой, блаженная!.. Найдешь Бога своего. Любит Он тебя. А скажи на ушко… когда эта проклятая Война кончится?!.. А?!..
Молчишь…
Глаза прозрачные…
Значит, никогда…
— Царь-Голод и Царь-Холод — два Царя. Им царствовать. Они наряжены в дохи собачьи, в митры костяные. Короны из волчьих зубов на них. Метельными, отборными алмазами усыпаны их спины и плечи. Озираются они. Ищут невесту, царицу. Нет никого вокруг, кто бы им в пару сподобился!..
— А ты, дурочка?.. Вот какая краса пропадает: мешок, волосья до земли, глазищи по плошке…
— Не гожусь в царицы: живая слишком, горячая… Свободой дышу… С голоду буду умирать — корки не попрошу… А Холод мне и подавно не страшен — видишь, за пазухой у зимы живу, хлеб жую…
Площадь гудела и содрогалась от гулу танков, идущих по ней, сминающих гусеницами все, рассыпанное по белому блюду щедрой Божьей рукой: и лотки с морковью и луком, и бабок с дрожащей колбасою под мышками, и визжащих, кусающих друг друга щенков, и самопальных художничков с яркими картинками, горящими, как фонари, наотмашь бьющими в глаз, и неумело размалеванных помадой малолеток, с жалкой наглостью предлагающих свой товар — груди как пупырышки, разъезжающиеся на материнских каблучках цыплячьи ножки, волосенки, забранные в мечущийся на ветру конский хвостик… лучшее блюдо века — распятая лягушечка на серебряном подносе, в розовом масле, чуть приправленная перцем крика и отчаяния… и торговок драгоценными камнями — малахитовые скарабеи, лазуритовые шары, жуки из родонита и кварца, аметистовые друзы, сердоликовые связки, янтарные слезы и капли, зеленые птичьи крошки амазонита, золотистые хризопразы, незаменимый талисман для актера, выбегающего, трясясь, на сцену перед пугающе черной пастью зала, кулоны из лунного камня трещали, втыкались в лед, рассыпались в пыль и прах под тяжелыми железными гудящими тушами, — веселись, народ, пей да гуляй, режь военный каравай, а праздник идет-гудет, вот он, твой праздник, мой народ — Площадь вся в кровавом вине, жемчужные снежные бусы висят на Луне… Ксенька, а ты что там сидишь, в сугроб всунулась?! Пировать вместе со всеми не хочешь?! Под брюхо танка ложиться не желаешь?! Жить любишь?!..
Она сидела недвижно, и танки обходили ее стороной, обтекали, как река обтекает остров, и те, кого танки давили, выбрасывали возмущенные руки к ней, кричали, хрипели: она колдунья… она знает Слово… она оборотень… она из Мира Иного… мы все умираем, а она остается, — зачем?!..
Она молчала. Сидела, застыв, ноги поджав, на снегу. Красная кремлевская стена морковными, чесночными зубцами вздымалась над нею.
КОНДАК КСЕНИИ ВО СЛАВУ ЦАРЕЙ ЕЯ
Я, и только я, видела их. Их больше не видел никто.
Что-то с моим зрением стряслось, пелена упала. Нерв чуда обнажился. Хрусталь во лбу засверкал. Тишина, счастье. Гром и крики — там, за куполом лба. Внутри — покой. Простор. Вижу поля: расстилаются до неба. Перелески, красные, рыжие, песчаные, хвойные, снеговые. Протоки. Бочажины. Излучины ледяных рек. Серебряное на черном. Река похожа на меня: тело белое, худое, долгое, изломистое, ребра торчат — ивняк, тальник, ракиты, — разбросаны руки отмелей. Вижу — звезды летят мне навстречу. Как снег. И я ловлю их ртом. И глотаю. И они во мне, и от них во чреве моем зарождается новая жизнь. Все дети мои умерли. От неба забеременею я еще раз. Влетайте, звезды. Жгите нутро. Хочу Бога своего родить. Он ко мне не идет ногами. Спит в закуте. Отлеживается. Его сильно били. Страшно пытали. Искорежили всего. Кости должны срастись.
А эти!.. Эти появлялись, что ни день. Что ни ночь, приходили. Я уже к ним привыкла. Сперва я увидала мальчика. По сыну страдаю, да. Везде мальчики чудятся, с него ростом, с его лицом. Мальчонка, в ушанке — холодно ведь; челка ровно выстрижена. Выбежал на площадь передо мной, оглянулся опасливо. Сделал знак рукой, махнул в воздух невидимому: мол, иди, иди. Незримый вышел на свет. Китель горел полосами серебра и золота — орденов, крестов. Усы заворачивались в колечки. Сапоги до колен — хромовые складочки, добротная прошивка. У нас в Армагеддоне таких не делают. Я глядела во все глаза. Он подошел к мальчику, обнял его за плечи. Снег слетал на его эполеты, двух золотых ежей. Голая голова. Русая. Ветер. Почему голый лоб у тебя?! Призраком, в пуржистом мареве, повис надо лбом золотой тюльпан с золотым крестом… Они оба глянули на меня. Увидели меня. И то, что я их вижу, поняли. Схватились за руки. Убежали в пургу.
В другой раз я увидела больше. Иду, костры горят. Лисьи хвосты огня в черноте мечутся. Огонь — убитая лиса. Раненая?!.. Хочу руки погреть. У костра останавливаюсь. Мужик, солдат, сжалился, меня отпихивать не стал от огня, флягу от пояса отвязал, мне дал из горла хлебнуть. Напиток ожег мне глотку. Ром?.. Коньяк?.. Наша водка, острая, зубчатая, как пила, едучая. Горло выжглось пустынно, скрутилось судорогой. Тепло разлилось. Солдат уже вожделенно глядел на меня. На мои старые мослы и старые лытки. На мои губы в сети морщин. Ему было все равно. Он был человек и голодал; скучал по ласке. Мне тоже было все равно. Голова туманилась, ладони и ступни горели, хотелось спать. Солдат постучал рукою по ватнику, свернутому около костра в колобок: садись. Посиди, отдохни. Красные глазки его в темноте хитро искрили. Я села на скомканный ватник, солдат обнял меня за шею, я прислонилась головой к его плечу. Ну, целуй. Что ж не целуешь? Он медлил. Его тоже клонило в сон. Костер горел и трещал.
И вот в трещании и высверках костра, над его длинными, стреляющими снопами искр языками появились они. Матрона, женщина высокая, дородная. Шуба распахнута. Под шубой — платье белое, все из чистых кружев. Я такое впервые видела. Один слой кружев, другой, третий; как кружевной пирог — сметана, сливки. Грудь — в глубоком вырезе. Кожа белая, сразу видно — хорошо баба кормлена, ест икру да красную рыбу, северное масло из бочек. Меж грудей — огонек крестика. Червонное золото. Фамильный. Рядом с матроной девочки. Четверо. Длинноволосые, как ангелы. Среди зимы — в летних шляпках. Что ж ты, мать, им ушанки не спроворила?!.. В пелеринках. Ежатся. Радостно подпрыгивают: греются, что ли, или веселятся так. Сначала я подумала, что девчонки на одно лицо. Потом прищурилась, рассмотрела. Разные… Кто пораскосее да погрубее, со степняцким выгибом лба, кто потоньше да пофарфоровее личиком. У девочки, что повыше всех росточком, застыл в темных глазах дикий страх. Губа закушена. Самая маленькая держится ручонками за материнскую шубу. Волосы русые из-под шляпки по ветру вьются. Жалость вцепилась в меня. Выжала как тряпку. Мужчина в кителе, держа за руку уже знакомого мне мальчика, быстро подошел к женщине с цыплячьими девчонками, сгреб весь выводок большими руками. У него не было шубы, он мерз. Я видела, как мелко дрожат его плечи, как сизеют на морозе щеки и нос. Он указал рукой на меня. Все повернулись ко мне. Семь пар глаз расстреливали меня в упор.
Метель поглотила их, как их и не было. Сонный солдат не мог меня поцеловать пьяными губами. Автомат валился с его плеча в костер. Я подхватила оружие, вновь напялила ему на плечо, на грудь. «Какая ты заботливая, — горько ухмыльнулся он, — а я, видишь, дурак и слабак. Ты уж прости мне. Сосну я». Он уснул на снегу у моих ног. Я сторожила его сон и его стреляльную игрушку. Красные искры прошивали черный воздух, как пули. Может быть, они больше не придут?..
Не тут-то было. Они появились. И взяли меня с собой.
Я стояла на паперти площадного храма. Вечерело. В церкви отслужили службу за упокой душ убитых на Войне. Люди выходили из храма, держа свечи в руках у груди. Их могли убить в любой момент. Живые жители еще живого Армагеддона. Горящая свеча в кулаке, у груди — залог того, что все-таки доберешься домой, что не подорвешься на мине, что тебя не разорвет снарядом. Не наведут на тебя танковую пушку. Люди расходятся по домам, неся огни в руках. Милые люди. Родные. Огонь да будет с вами. Я умела раньше обращаться с огнем. Я вызывала его из черноты. Теперь я лишь смиренно наклоняю голову. Несите пламя. Я сама, как века назад, с огнем в руке пойду. Человека искать. Бога встречать.