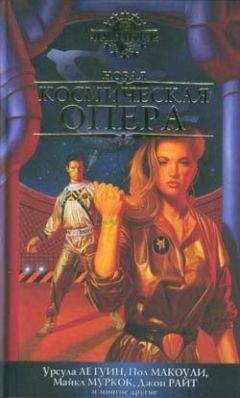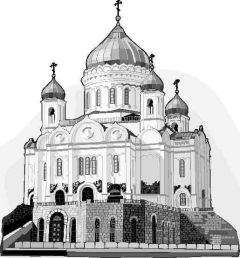Отец Александр поднял брови, поколебался и решил промолчать.
– Но вы же не будете отрицать, – молодой человек листал рукопись, хмыкал, качал головой, а в одном месте остро заточенным карандашиком успел даже поставить восклицательный знак, – что тому, кто ни во что и ни в кого не верит, вполне безразличны последствия появления Христа в этом вашем провинциальном городке. Вы, кстати, откуда?
– Сотников Пензенской губернии…
– Списано, стало быть, с натуры… Что ж, мой дорогой, – он заглянул в конец рукописи, – товарищ Александр Боголюбов! Будем читать – и, уверяю вас, без гнева и пристрастия. Никаких, само собой, обещаний, но, помнится мне, Григорий Саввич учил нас, дураков, что непереходимая граница вполне может оказаться дверью, открывающей новые пространства.
– Сковорода?
– Он самый. Иногда я думаю, что у нас, в России, никогда не было никого умнее его.
Три дня спустя о. Александр двинулся за ответом в упомянутые редакции.
Накануне, перед сном, он усердно просил Господа явить Свою власть и силу, дабы «Золотое Руно», или «Красная новь», или «Молот» приняли поэму к печати. Сознавая, что его молитва не свободна от желания стяжать литературную известность и отхлебнуть из кубка поэтической славы, он покаянно шептал: «Так, Господи! Грешен». Вместе с тем он не таил надежду, что человеческие слабости не заслонят от Создателя всех и вся стремления автора в меру сил послужить как Небу, так и несчастному Отечеству, представив общественности страшную картину новой казни явившегося в Россию Сына Человеческого. И разве не молился Исаак Господу о Ревекке, неплодной жене своей, чтобы она зачала? А Давид разве не молился ночь напролет о сыне своем, которого родила ему Вирсавия, чтобы отступила поразившая младенца болезнь? И разве не сказано, что молитва веры исцелит болящего? Как нищий протягивает руку за подаянием, так и человек во все времена обращается к Богу с проникновенной просьбой: «Подай, Господи!» Само собой, вряд ли пристойно день и ночь посылать Небесам прошения об их благосклонном вмешательстве в нашу личную жизнь. Бог – не банк, а молитва – не вклад, неизменно радующий недурным процентом. «Но, Господи, – горячо шептал о. Александр, – моего личного тут самая малость, Ты знаешь… Не мне – имени Твоему! И рабам Твоим, соблазненным и забывающим, сколь безысходна и мучительна жизнь без Тебя».
В «Золотом руне» он застал Инессу Пышкину в обществе длинноволосого молодого человека, несмотря на жару одетого в наглухо застегнутый френч земгоровского образца и военного покроя брюки, заправленные в высокие, желтой кожи американские ботинки.
– Я тебе приношу, – полузакрыв глаза, нараспев читал молодой человек, – от великого Пана… темно-вьющийся хмель и копье великана.
Увидев в дверях о. Александра, Инесса приложила к губам пухлый пальчик.
– Опою тебя зельем и ударю копьем. Будешь спать непробудно ты на ложе моем!
После минуты восхищенного безмолвия (в продолжение коего о. Александр, стараясь не производить шума, извлек из кармана коробку, из коробки выколупал папиросу и, всего лишь взглядом испросив разрешение у Пышкиной воспользоваться ее спичками, чиркнул, прикурил и с наслаждением затянулся) Инесса рекла:
– Владислав, друг мой, свидетельствую, что тебя посетила Муза. – Затем, благосклонно приняв предложенную о. Александром папиросу (и Владислав вслед за ней запустил в драгоценную коробку руку с длинным, как коготь, и отполированным ногтем мизинца), она повторила: – Опою тебя зельем… – Не только голосом, но плавными мановениями руки с дымящейся папиросой она обозначала ритм и проясняла сладостный смысл только что прозвучавших строк: – …и ударю копьем!
Всем своим маленьким толстеньким телом она подалась навстречу пронзающему орудию, после чего широкий ее рот тронула медленная улыбка словно бы въяве изведанной страсти.
– Пусть сгорю в наслажденье, – дико вскрикнул вдохновленный Владислав, швыряя на пол и толстой американской подметкой топча едва закуренную папиросу, – пусть я страстью взорвусь – но зато на мгновенье я над миром взовьюсь!
Со вздохом глянул о. Александр на бесславно погибшую папироску.
– Изолью мое семя – в недра твои! И забудем мы время – в муках любви!
«Беса тешит, – про себя вынес о. Александр приговор сочинениям длинноволосого Владислава. – А она млеет. Замуж ей надо, а из этого дурня такой же муж, как и поэт. Семя – время. Сто лет этой рифме».
Левой ладошкой Пышкина несколько раз прикоснулась к правой. Браво. Брависсимо. Море огня, чувства, страсти. В конце концов, поэзия вырастает из либидо. Либидо – это печь, в которой сор переплавляется в стихи. Что такое «либидо» – о. Александр, убей Бог, не знал, но спросить не решился. Засмеют. Пока престарелый Иоганн жаждет обладать юной Ульрикой – он поэт. Ага. Вот оно, значит, в чем дело. Когда молодой Добролюбов вдруг замещает любовь к женщине любовью к Богу, мир уменьшается на одного яркого поэта, но увеличивается на одного скучного проповедника. Оскар Уайльд сел в тюрьму за свое исповедание красоты, но и в темнице остался поэтом.
– Не в красном был он в этот час, он кровью залит был…
– Когда любимую свою, – подхватил Владислав и воображаемым кинжалом поразил насмерть воображаемую изменницу-подругу, – в постели он убил…
Красота и страсть были и будут врагами всяческой благочестивой умеренности!
– У вас же, – обратилась Пышкина непосредственно к о. Александру, взяла из раскрытой коробки папиросу, долго закуривала, затягивалась, отмечала, что табак отменный, и все это время оглядывала собеседника снисходительным взором принесшей многие жертвы на алтарь любви женщины, но вместе с тем и обладательницы безошибочного поэтического вкуса, дающего ей бесспорное право отсеивать зерна от плевел, – на первом месте рацио… Прохладная религиозность. – Она достала рукопись поэмы и, подвывая, прочла: – И не тебя – Иисуса Я пошлю в Россию, чтоб от Него услышать, какою жизнию живут там люди…
Владислав закинул голову и отрывисто засмеялся: «Ха! Ха! Ха!» Отец Александр ощутил зверское желание схватить его за длинные волосы и выкинуть за дверь. Но вместо этого он с вымученной улыбкой заметил, что любую строку можно либо возвысить, либо погубить манерой чтения.
– Нет плохого чтения, – отрезала Инесса, – есть плохие стихи.
– И Пушкина можно… – уперся было о. Александр, но Пышкина пренебрежительно махнула пухлой ручкой. Оставьте. Вы холодны, словно всю жизнь провели в леднике. У вас все отморожено.
– Все! – воскликнула она, и Владислав трижды одобрительно проржал.
Кто ваша вдохновительница? Ваша Муза? Ваша Дельмас? Айседора? Лиля? Ваша Лаура, если угодно? Нетрудно вообразить ее у корыта с красными, распухшими от стирки руками или у плиты, где в горшке она стряпает кашу на всю семью: для верного ей до тошноты мужа и в скуке зачатых от него детей.
– Все это не так! – оскорбившись за Нину и за свое страстное, сильное к ней чувство крикнул о. Александр.
– Молчите и слушайте! – велела ему в ответ Пышкина. – Вы человек из провинции, у вас нет среды, вы варитесь в собственном соку и вам не ведомо, что такое поэзия. – Коротенькими пальчиками со следами фиолетовых чернил на них она ловко и быстро схватила папиросу.
«Третья», – с горечью отметил о. Александр, и с еще большей горечью увидел, как вслед за Инессой своей пятерней с отполированным ногтем в коробку полез и длинноволосый Владислав.
Окутавшись клубами дыма, хрипло говорила Пышкина. Если литератор Боголюбов мистик… а он очевидно склонен к мистицизму, имеющему, однако, в основе набивший оскомину примитивный христианский миф… тем не менее он обладает похвальным стремлением заглянуть по ту сторону бытия. Но что такое мистицизм без всепроникающего Эроса? Дым рассеялся. Пышкина провела языком по губам, выискивая попавшие на них из папиросы крошки табака. Покончив с этим, она продолжила. Эрос – крылья мистицизма. Он уносит вас в запредельную, заповедную, запретную для простых смертных даль! Привстав, она дважды взмахнула пухлыми ручками, словно намереваясь навсегда улететь из «Золотого руна». В долины скорбных теней! В миры тоскующих сердец! В обители неразделенной страсти!
– Входящие, – жутко провыл Владислав, – оставьте упованье…
Ваш Христос, брякнула она, неэротичен. Старый бог, истративший свою силу в бесполезных нравоучениях. Отчего он всего лишь визионер и резонер – наблюдатель и моралист? Отчего он так немощен? Отчего не производит впечатления мужчины? Отчего не берет с вожделением всемогущего властелина и с похотью небесного быка приютившую его девицу? Он должен был совершить чудо, восстановить в ней глупо и пошло утраченное девство, а затем взять как деву, доселе не знавшую мужа и впервые открывшую свои ложесна! Тогда было бы оправдано название вашего сочинения, ибо дева, обретшая девство и подарившая его явившемуся к ней богу, – это Россия, забывшая всех прежних своих любовников и насильников и совокупившаяся наконец с единственным, избранным и желанным.