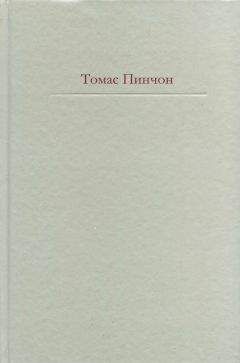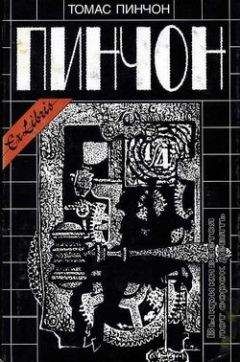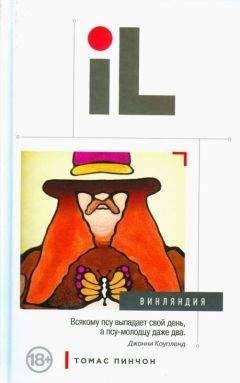□□□□□□□
На полпути вверх по трапу Ленитроп вздрагивает: из темного люка ему сияет яркий комплект зубов.
— Я наблюдал. Надеюсь, вы не против. — Похоже, опять тот джап, и теперь он представляется энсином Императорского флота Японии Моритури.
— Ну-у, я-а… — почему это Ленитроп так тянет слова? — …видал, как вы наблюдали… и вчера вечером тоже, мистер…
— Думаете, я вуайерист. Да-да, так и думаете. Дело не в этом. То есть — никакой радости. Просто когда я наблюдаю за людьми, мне не так одиноко.
— Ну дык а чё, энсин… а чё б и не… влиться? Они всегда рады… обществу.
— Ох ты ж господи, — ухмылка у него, как у всех джапов, широченная и полиэдральная, — но тогда мне будет так одиноко…
На кормовом подзоре под навесами в красно-оранжевую полосу установили столы и стулья. Ленитроп и Моритури властвуют здесь почти всецело, если не считать каких-то девушек в раздельных купальниках: барышни ловят солнышко, пока не скрылось. Прямо по курсу громоздятся кучево-дождевые облака. Вдалеке слышен гром. Воздух пробуждается.
Стюард приносит кофе, сливки, овсянку и свежие апельсины. На овсянку Ленитроп глядит с сомнением.
— Я возьму. — Энсин Моритури хватает плошку.
— Ой, конечно. — Ленитроп замечает, что у джапа, к тому же, густые и подкрученные усы. — Ага, ага. Врубаюсь. Любитель овсянки! Позор. Латентный англофил — да-да, вы покраснели. — Тычет пальцем и голосит ха, ха, ха.
— Вы меня разоблачили. Да-да. Шесть лет был не на той стороне.
— Пытались когда-нибудь сбежать?
— И выяснить, какие вы на самом деле? Боже святый. А если фил обернется фобом? Где я окажусь? — Он хихикает, плюет апельсиновой косточкой за борт. Судя по всему, сколько-то недель он тренировался в школе камикадзэ на этой их Формозе, но признали непригодным. Никто ему так и не сказал почему. Что-то не то с позицией. — Позиция у меня была неверная, — вздыхает он. — Поэтому меня вернули сюда — через Россию и Швейцарию. На сей раз — по линии Министерства пропаганды. — Целыми днями сидел и смотрел кинохронику Союзников, искал, что можно стянуть и вмонтировать в свою, чтобы Ось смотрелась хорошо, а противная сторона — плохо. — Про Великобританию я знаю только из этого сырья.
— Видимо, немецкое кино исказило взгляды не только вам.
— Вы имеете в виду — Маргерите. А знаете, так мы с нею и встретились! Через общего знакомого с «Уфы». Я проводил отпуск в Дур-Карме, незадолго до вторжения в Польшу. В том городке, где вы к нам сели. Там был курорт. Я наблюдал, как вы упали в воду. А потом забрались на борт. А кроме того, я наблюдал, как за вами наблюдала Маргерита. Не обижайтесь, пожалуйста, Ленитроп, но сейчас лучше держаться от нее подальше.
— И не подумаю обижаться. Я знаю, тут жуть какая-то творится. — Он рассказывает Моритури об инциденте на Sprudelhof и бегстве Маргариты от привидения в черном.
Энсин кивает — мрачно, подкрутив ус так, чтобы тот саблей смотрел ему в глаз.
— Она вам не рассказывала, что там произошло? Елки, Джек, вам бы не повредило знать…
ИСТОРИЯ ЭНСИНА МОРИТУРИ
Войны умеют затмевать собою дни, им предшествующие. Оглядываясь, понимаешь, сколько там шума и тягости. Но в нас выработан условный рефлекс забывать. Так война, конечно, весомее, да, но все равно… не легче ли увидеть скрытую машинерию в те дни, что подводят к событию? Разрабатываются комбинации, что-то должно ускоряться… и края частенько приподымаются на миг, и мы видим то, что нам видеть не полагалось…
Маргериту пытались отговорить от поездки в Голливуд. Она туда отправилась — и потерпела фиаско. Когда вернулась, здесь был Ролло — он-то и уберег от непоправимого. Целый месяц реквизировал острые предметы, не пускал ее выше цокольного этажа и к химическим веществам, а это значило, что спала она мало. Задремывала и очухивалась в истерике. Боялась заснуть. Боялась, что не сумеет вернуться.
Ролло сообразительностью не знаменит. Хотел добра, но через месяц такой жизни понял, что больше не может. Вообще-то все очень удивлялись, что он продержался так долго. Грету передали Зигмунду — едва ли она поправилась, но, пожалуй, хуже ей не стало.
С Зигмундом же засада была в том месте, где ему выпало жить: в уродстве со сквозняками и бойницами, что смотрело на холодное озерко в Баварских Альпах. Какие-то части уродства сохранились, должно быть, еще с паденья Рима. Вот куда Зигмунд ее привез.
Почему-то она вбила себе в голову, что в ней течет еврейская кровь. Дела в Германии к тому времени, как всем известно, были очень плохи. Маргерита до смерти боялась, что ее «вычислят». В каждом холодке, что задувал снаружи сквозь тысячи отдушин обветшанья, ей слышалось сопение гестапо. Ночи напролет Зигмунд пытался ее разубедить. Ему удавалось не лучше, чем Ролло. Примерно в то время у нее и проявились симптомы.
Сколь психогенны бы ни были те боли, тики, сыпи и тошноты, страдала она взаправду. Цеппелином из Берлина прибывали иглоукалыватели — объявлялись среди ночи с золотыми иглами в бархатном нутре чемоданчиков. По замку Зигмунда туда-сюда толпами бродили венские аналитики, индийские святые, баптисты из Америки, а эстрадные гипнотизеры и колумбийские curanderos[283] спали на ковриках у камина. Ничего не помогало. Зигмунд встревожился, а вскоре и у него выявилась Гретина склонность к галлюцинациям. Вероятно, ехать в Дур-Карму предложила Маргерита. В то лето городок славился грязями — горячими и жирными грязями со следами радия: смолисто-черные, они мягко булькали. Ах-х. Надежды Маргериты легко вообразит всякий, кто страдал сходным недомоганием. Грязь эта излечит что угодно.
Где же все были в то лето перед Войной? Грезили. Курорты в то лето — когда в Дур-Карму приехал энсин Моритури, — были переполнены лунатиками. В посольстве делать нечего. Предложили взять отпуск до сентября. Что-то заваривалось — он мог бы и догадаться, но отправился в Дур-Карму просто отдыхать: целыми днями пил «Pilsener Urquelle»[284] в кафе у озера, что в Парке с Павильоном. Он был чужак, почти всегда навеселе — глупо, от пива — и почти не говорил на их языке. Но то, что он видел, вероятно, творилось по всей Германии. Предумышленная горячка.
Маргерита и Зигмунд бродили по тем же дорожкам под сенью магнолий, сидели на тех же стульях-каталках на концертах патриотической музыки… когда шел дождь, суетились за ломберными столами в каком-нибудь салоне своего курзала. По вечерам смотрели фейерверки — фонтаны, пенившиеся искрами ракеты, желтые лучистые звезды в вышине над Польшей. Онейрический сезон… Ни один курортник ничего не сумел прочесть в схемах огней. Просто веселенькие светляки, нервические, точно фантазии, что перемигивались в глазах, шелестели по коже, словно веера из страусовых перьев полувековой давности.
Когда же Зигмунд впервые заметил ее отлучки — или когда они лишились своей обыденности? Грета всегда отговаривалась чем-то похожим на правду: визитом к врачу, случайной встречей со старой подругой, сонливостью в грязевых ваннах, время, оказывается, так бежит. Возможно, этот необычный сон его и насторожил — на юге-то Зигмунд от ее бодрствования натерпелся. Может, сообщения о детях в местных газетах и не откладывались в памяти, по крайней мере — тогда. Зигмунд читал одни заголовки, да и то редко, чтоб заполнить мертвую паузу.
Моритури часто их видел. Встречались, раскланивались, обменивались «хайль-гитлерами», и энсину дозволялось несколько минут попрактиковать немецкий. Если не считать официантов и барменов, только с ними двоими он и разговаривал. На теннисных кортах, дожидаясь своей очереди в павильоне с водами под прохладной колоннадой, на водном corso[285], турнире цветов, венецианском fête[286] Зигмунд и Маргерита почти не менялись: он со своей… Моритури считал, что это Американская Улыбка, проткнутая янтарным мундштуком погасшей трубки… голова — что елочное украшение из плоти и крови… как давно это было… она со своими желтыми солнечными очками и шляпками а-ля Гарбо. В ней изо дня в день менялись только цветы: ипомея, миндаль, наперстянка. Моритури со временем начал так ждать этих встреч. Жена и дочери — на совершенно другом краю света, сам он — в изгнании, в стране, что ошеломляла его и подавляла. Ему требовалась мимолетная учтивость посетителей в зоосаде, нужны были слова из путеводителя. Он понимает, что в ответ пялился с таким же любопытством. Европейским лоском своим они его чаровали: царственные старухи в белых султанах, возлежавшие на раскинугых шезлонгах, ветераны Великой войны, что безмятежными гиппопотамами отмокали в стальных ваннах, их женственные секретари, пронзительно трещавшие, как макаки, по всей Sprudelstrasse[287], а за сводами лип и каштанов вдали — несмолкаемый рев углекислоты в кипящем источнике, извергаемой из раствора огромными сферами дрожи… однако больше прочих завораживали его Зигмунд и Маргерита.