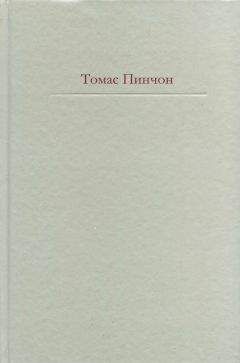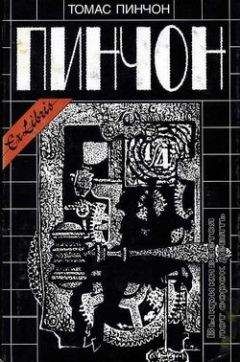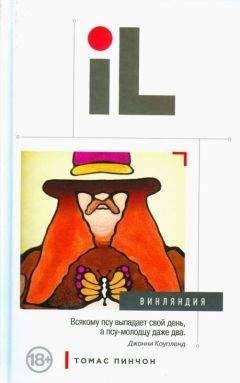— Они там были словно такие же чужаки. У всех нас антенны, вам не кажется? — настроенные на признание своих…
Как-то ближе к полудню он случайно встретил Зигмунда — в одиночестве, твидовая статуя, опирающаяся на трость перед Ингаляторием, вид такой, будто потерялся, некуда идти, да и неохота. И без особого умысла они завели беседу. Момент созрел. Вскоре оттуда ушли, побрели сквозь толпы недужных иностранцев, а Зигмунд рассказывал о неприятностях с Гретой, о ее еврейской блажи, ее отлучках. Накануне он поймал ее на лжи. Она вернулась очень поздно. Руки мелко дрожали, успокоиться не могла. Зигмунд стал подмечать всякое. Туфли в бусинках подсыхающей черной грязи. Шов на платье разошелся, едва ли не разорван, хотя Грета худела. Но ему не хватало мужества высказать ей в лицо.
И тогда Моритури — он-то газеты читал, и связь явилась ему мгновенно, будто чудище из прирученного бурленья газов в Trinkhalle[288], но у него не было слов, ни немецких, ни каких прочих, чтобы сообщить Зигмунду, — Моритури, Пивной Энсин, принялся ходить за Гретой по пятам. Она никогда не оборачивалась, но знала, что он следует за ней. На еженедельном балу в курзале он впервые ощутил их общую скрытность. Маргерита — глаза, что он привык видеть лишь под защитой солнечных очков, теперь обнажились и кошмарно сверкают, — не отрывала от него взора. Кур-оркестр играл попурри из «Веселой вдовы» и «Секретов Сусанны», музыку допотопную, и все же, когда ее лоскутки из радиоприемника много лет спустя догоняли Моритури на улице, к нему неизменно возвращался неписаный вкус той ночи, когда они втроем стояли на краю хляби, кою никому не промерить… последняя реприза европейских тридцатых, которые он так и не познал… а для него еще — и особая комната, салон на склоне дня: тощие девушки в платьях, вокруг глаз намазано тушью, мужчины с начисто выбритыми лицами, отполированными, точно у кинозвезд… тут уже не оперетта, а танцевальная музыка, изощренная, ублажающая, несколько «модерновая», ныряет элегантно в современные мелодические рисунки… комната наверху, вливается предзакатный свет, толстые ковры, голоса не произносят ничего тягостного или сложного, улыбки осведомлены и снисходительны. В то утро Моритури проснулся в мягкой постели, теперь рассчитывает на вечер в кабаре, где будут танцы под популярные песни о любви, исполняемые в таком вот стиле, манерно и глянцево. Салон днем — сдерживаемые слезы, дым, осторожная страстность — был ему полустанком на пути от комфортабельного утра к комфортабельному вечеру: это Европа, это дымный, очень городской страх смерти, а опаснее всего — постижимые глаза Маргерита, эта их потерянная встреча в курзале, черные глаза в столпотворении драгоценностей и до дремоты немощных генералов, в реве Brodelbrunnerr[289] снаружи, что заполняет тихие паузы в музыке, как вскоре машинерии суждено заполнить небеса.
Следующим вечером Моритури пошел за Маргеритой в последний раз. По вытоптанным дорожкам под привычными кронами, мимо германского пруда с золотыми рыбками, что напоминал ему о доме, по площадке для гольфа, где последние белоусые игроки того дня выпутывались из ловушек и препятствий, а кэдди в закатном сиянии стояли аллегорически по стойке «смирно» в закатном зареве, связки клюшек — фашистским силуэтом… На Дур-Карму в тот вечер опустились мертвенные и ожесточенные сумерки: не горизонт, а библейская кара. Грета оделась в черное, шляпка с вуалью почти скрывала прическу, ридикюль на долгой лямке наброшен на плечо. Выбор пунктов назначения свелся к одному, энсин Моритури попадался в силки, что уже расставляла ему ночь, и речным ветром заполняло его пророчество: где бывала она в своих отлучках, каким образом дети из тех заголовков…
Они пришли к берегу пруда с черной грязью — этим подземным присутствием, старым, как Земля, на Курорте частично огороженным и поименованным… Подношеньем надлежало стать мальчику, задержавшемуся после того, как ушли остальные. Волосы его были хладным снегом. Слова Моритури слышал только обрывками. Сначала мальчик ее не боялся. Может, и не признал по своим грезам. Единственная его надежда. Но они, эти его немецкие надзиратели, ничего такого не допустили. Моритури в мундире стоял поблизости, ждал, расстегивая пуговицы, чтоб удобнее было двигаться, хотя двигаться не желал. Они же явно повторяли этот изломанный номер с незапамятных времен…
Голос ее взметнулся, а мальчик затрепетал.
— Ты слишком долго пробыл в изгнании. — Громкий хлопок в сумерках. — Пойдем домой, пойдем со мною, — вскричала она, — вернемся к твоему народу. — Он уже вырывался, но ее рука — рука в перчатке, ее коготь — вылетела и схватила его за локоть. — Говнюк жидовский. Не пытайся от меня сбежать.
— Не… — но в самом конце — всплеск, дерзким вопросом.
— И ты знаешь, кто я. Мой дом — форма света, — пускается в фарсовую пародию с сильным еврейским акцентом, гаерным и фальшивым: — Я скитаюсь по всей Диаспоре, ищу заблудших детишек. Я Исраэль. Я Шхина, царица, дщерь, невеста и мать Б-жья. И я верну тебя, осколок ты разбитого сосуда, пусть даже мне придется тащить тебя за мерзкий обрезанный пенис…
— Не…
И тогда энсин Моритури совершил единственный известный героический поступок за всю свою карьеру. Но даже в досье не попало. Она подхватила бьющегося мальчика, одна перчатка зарылась ему между ног. Моритури кинулся вперед. Какой-то миг они покачивались втроем, сомкнувшись воедино. Серое нацистское изваяние — могли бы «Семьей» назвать. Никакой вам греческой бездвижности, нет — они двигались. Не о бессмертии речь. В том и разница. Ни выживания вне ощущений такового — ни наследования. Обречены, как авантюра д’Аннунцио в Фиуме, как сам Рейх, как те несчастные существа, от коих мальчик ныне оторвался и сбежал в глубь вечера.
Маргерита рухнула у края огромного бессветного пруда. Моритури опустился пред ней на колени — она плакала. Это было ужасно. Что привело его туда, что поняло и навязалось так машинально, теперь снова погрузилось в сон. Его условные рефлексы, его вербальное, отранжированное и обмундированное «я» снова одержало верх. Он стоял на коленях, дрожа, за всю жизнь так не боялся. Обратно на Курорт его привела она.
А ночью Грета с Зигмундом уехали из Дур-Кармы. Может, мальчик слишком испугался, свет был слишком тускл, сам Моритури располагал сильными защитниками, ибо, свидетель бог, он был слишком заметен, — но полиция не нагрянула.
— Мне и в голову не приходило отправиться к ним. В душе я сознавал, что она убивала. Можете меня осуждать. Но я видел, чему бы ее сдал, — одно и то же, официальные власти или нет, понимаете. — Назавтра было 1 сентября. И дети больше не могли исчезать таинственно.
Утро потемнело. Под навес поплевывает дождик. Овсянка перед Мори тури так и осталась нетронутой. Ленитроп потеет, глядючи на яркие останки апельсина.
— Слушайте, — соображает его шустрый разум, — а как же Бьянка? Ей с этой Гретой ничего не грозит, вы как считаете?
Взбивает усищи.
— Вы о чем? Вы спрашиваете: «Можно ли ее спасти?»
— Ох, би-бип, старина джап, кончайте…
— Слушайте, вы-mo от чего можете ее спасти? — Взгляд его отдирает Ленитропа от комфорта. Дождь уже барабанит по навесу, прозрачным кружевом ссыпаясь с краев.
— Но минуточку. Ох блядь, та женщина вчера, в этом Sprudelhof…
— Да. Помните, и Грета видела, как вы из реки выбирались. Вы представьте, какой у этого народа фольклор про радиоактивность — у этих, которые таскаются с курорта на курорт из сезона в сезон. Красота благодати. Святые воды Лурда. Таинственная радиация, которая столько всего исцеляет, — может, она и есть окончательная панацея?
— Э…
— Я наблюдал за ее лицом, пока вы забирались на борт. Я был с нею на краю одной радиоакгивной ночи. Я знаю, что она видела на сей раз. Одного из тех детишек — сохраненного, вскормленного грязью, радием, он подрос и окреп, пока теченья, медленные и тягучие, неторопливо влекли его по преисподней, за годом год, пока наконец, возмужав, он не добрался до реки, не всплыл из черного ее сияния и снова не обрел ее, Шхину, невесту, царицу, дщерь. И мать. Нежную, как покров грязи и светящаяся урановая смолка…
Почти над самыми головами у них гром вдруг раскалывает ослепительное яйцо грохота. Где-то внутри взрыва Ленитроп пробормотал:
— Хватит дурака валять.
— Рискнете выяснить?
Да кто же это, ах ну еще бы это джапов энсин на меня так смотрит. Но где руки Бьянки, ее беззащитный рог…
— Ну что, через день-другой мы будем в Свинемюнде, так? — говорит, чтоб не… ну встань же из-за стола, засранец…
— Поплывем дальше, вот и все. В конце это уже неважно.
— Слушайте у вас же есть дети, как вы можете такое говорить? Вам только этого, что ли, и надо — просто «плыть дальше»?