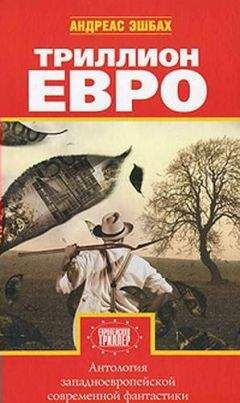– Добрый вечер, – обратился он к голове, лежавшей на подушке.
Лицо было так занавешено темными прядями, что остались видны только глаза, они блестели, как кошачьи глаза из кустарника.
– Не хочу, чтобы меня осматривали, – сказала девушка. – Не позволю, чтобы меня осматривали.
– Я и не собираюсь вас осматривать. Расскажите, где у вас болит живот, вот и все.
– Мне уже лучше.
– Ладно. Тогда я сейчас уйду. Можно зажечь свет?
– Если вам надо, – сказала она и откинула волосы с лица.
На лбу доктор Пларр заметил маленькую серую родинку, там, где индуски… Он спросил:
– В каком месте болит? Покажите.
Она отвернула простыню и показала пальцем место на голом теле. Он протянул руку, чтобы пощупать живот, но она отодвинулась. Он сказал:
– Не бойтесь. Я не буду вас осматривать, как доктор Беневенто, – и услышал, как у нее перехватило дыхание. Тем не менее она разрешила ему подавить пальцами живот.
– Здесь?
– Да.
– Ничего страшного. Небольшое воспаление кишечника, и все.
– Кишечника?
Он видел, что слово это ей незнакомо и пугает ее.
– Я оставлю для вас немного висмута. Принимайте с водой. Если добавить в воду сахар, будет не так противно. На вашем месте виски бы я не пил. Вы ведь больше привыкли к апельсиновому соку, верно?
Она поглядела на него с испугом и спросила:
– Как вас зовут?
– Пларр, – сказал он. И добавил: – Эдуардо Пларр.
Он сомневался, звала ли она по имени кого-нибудь из мужчин, кроме Чарли Фортнума.
– Эдуардо, – повторила она и на этот раз поглядела на него смелее. – Я ведь вас не знаю, а? – спросила она.
– Нет.
– Но вы знаете доктора Беневенто.
– Раза два с ним встречался. – Он встал. – Его визиты по четвергам вряд ли были приятными. – И добавил, не дав ей ответить: – Вы не больны. Вам нечего лежать в постели.
– Чарли, – она произнесла его имя с ударением на последнем слоге, – сказал, что я должна лежать, пока не придет доктор.
– Ну вот, доктор пришел. Значит, надобности больше нет…
Дойдя до двери, он обернулся и увидел, что она на него смотрит. Простыню она так и забыла натянуть.
– А я и не спросил, как зовут вас, – сказал он.
– Клара.
Он сказал:
– Я там никого не знал, кроме Тересы.
Возвращаясь назад по коридору, он вспоминал статуэтку святой Терезы Авильской, которая осеняла как его упражнения, так и более литературные занятия доктора Сааведры. А теперь, наверно, подруга святого Франциска [имеется в виду св.Клара (1194-1254), сподвижница Франциска Ассизского] смотрит сверху на постель Чарли Фортнума. Пларр вспомнил, что, когда он впервые увидел девушку, она стелила в своей каморке постель, гибко перегнувшись в талии, как негритянка. Теперь он уже навидался самых разных женских тел. Когда он стал любовником одной из своих пациенток, его возбуждало не ее тело, а легкое заикание и незнакомые духи. В теле Клары не было ничего примечательного, кроме немодной худобы, маленькой груди и девичьих бедер. Может быть, ей уже около двадцати, но по виду ей не дашь больше шестнадцати – матушка Санчес набирала их совсем юными.
Он остановился возле репродукции, где был изображен всадник в ярко-красной куртке; лошадь понесла и забежала вперед гончих; багровый от злости доезжачий грозил кулаком виновнику, а перед гончими расстилались поля, живые изгороди и ручей, видимо заросший по берегам ивами, – незнакомый, иноземный ландшафт. Он с удивлением подумал: я ни разу в жизни не видел такого маленького ручья. В этой части света даже самые малые притоки огромных рек были шире Темзы из отцовской книжки с картинками. Он снова произнес слово ручей; у ручья, наверно, свое особое поэтическое очарование. Нельзя же назвать ручьем ту мелкую заводь, где он иногда ловил рыбу и где боишься купаться из-за скатов. Ручей должен быть спокойным, медлительным, затененным ивами, безопасным. Право же, здешняя земля чересчур просторна для человека.
Чарли Фортнум ожидал его с наполненными стаканами. Он спросил с притворной шутливостью:
– Ну, какой вынесен приговор?
– Ничего у нее нет. Небольшое воспаление. И лежать в постели ей незачем. Дам вам лекарство, пусть принимает с водой. До еды. Виски я ей пить не позволил бы.
– Понимаете, Тед, я не хотел рисковать. В женских делах я не очень-то разбираюсь. В их внутренностях и так далее. Первая жена никогда не болела. Она была из последователей христианской науки [религиозное учение, основанное американкой Мэри Эдди (1821-1910), последователи которого утверждают, в частности, что болезни лишь порождение несовершенного сознания, и не прибегают к медицинской помощи].
– Чем тащить меня в такую даль, в другой раз прежде позвоните по телефону. В это время года у меня много больных.
– Вы, наверное, считаете меня идиотом, но она так нуждается в заботе.
Пларр сказал:
– Я-то думаю… что в тех условиях, в каких она жила… могла научиться и сама о себе позаботиться.
– Что вы хотите этим сказать?
– Ведь она работала у матушки Санчес, не так ли?
Чарли Фортнум сжал кулак. В уголке его рта повисла прозрачная капля виски. Доктору Пларру показалось, что у консула поднимается кровяное давление.
– А что вы о ней знаете?
– Я ни разу с ней не оставался, если это вас беспокоит.
– Я подумал, что вы один из тех мерзавцев…
– Вы же сами были «одним из тех». По-моему, я даже помню, как вы мне рассказывали об одной девушке, кажется Марии из Кордовы.
– То совсем другое. Там была физиология. Знаете, я ведь несколько месяцев даже не притрагивался к Кларе. Пока не убедился, что она меня хоть немножко любит. Мы просто разговаривали, и больше ничего. Я, конечно, заходил к ней в комнату, потому что иначе у нее были бы неприятности с сеньорой Санчес. Тед, вы не поверите, но я никогда ни с кем не разговаривал, как с этой девушкой. Ей интересно все, что я ей рассказываю. О «Гордости Фортнума». Об урожае матэ. О кинофильмах. Она очень хорошо разбирается в кино. Я им никогда особенно не интересовался, а она всегда знает самые последние новости о какой-то даме, которую зовут Элизабет Тейлор. Вы о ней слышали, о ней и о каком-то Бертоне? Я-то всегда думал, что Бертон – это название пива. Мы с ней разговаривали даже об Эвелин – это моя первая жена. Надо признаться, я был довольно одинок, пока не встретил Клару. Вы будете смеяться, но я полюбил ее с первого взгляда. И почему-то с самого начала ничего от нее не хотел, пока она сама тоже не захочет. Она этого понять не могла. Думала, у меня что-то не в порядке. Но я хотел настоящей любви, а не бардачной. Вероятно, вы меня тоже не поймете.
– Я не очень точно себе представляю, что означает слово «любовь». Моя мать, например, любит dulce de leche. Так она сама говорит.
– Неужели ни одна женщина вас не любила? – спросил Фортнум.
Отеческая тревога в его голосе вызвала у доктора раздражение.
– Две или три в этом меня уверяли, однако, когда я с ними расстался, им не стоило труда найти мне замену. Только любовь моей матери к пирожным неизменна. Она будет любить их и в здравии, и в болезни, пока смерть их не разлучит. Может, это и есть подлинная любовь.
– Вы чересчур молоды, чтобы быть таким циником.
– Я не циник. Я просто человек любознательный. Меня интересует, какое значение люди вкладывают в слова, которые они употребляют. Ведь многое тут – вопрос семантики. Вот почему мы, медики, часто предпочитаем пользоваться таким мертвым языком, как латынь. Мертвый язык не допускает двусмысленностей. А как вам удалось заполучить девушку у матушки Санчес?
– Заплатил.
– И она охотно оттуда ушла?
– Сначала она была немножко растеряна и даже пугалась. Сеньора Санчес пришла просто в бешенство. Ей не хотелось терять эту девушку. Она сказала, что не возьмет ее назад, когда она мне надоест. Будто это возможно!
– Жизнь – штука долгая.
– Только не моя. Давайте говорить откровенно, Тед, вы же не станете меня уверять, что я буду жить еще десять лет, а? Даже при том, что с тех пор, как я узнал Клару, я стал меньше пить.
– А что с ней будет потом?
– Это довольно приличное именьице. Она его продаст и переедет в Буэнос-Айрес. Теперь можно не рискуя получить пятнадцать процентов годовых. Даже восемнадцать, если не побоишься рискнуть. И, как вы знаете, я имею право каждые два года выписывать из-за границы автомобиль… Может, получу еще машин пять, пока не окочурюсь. Считайте, что это даст еще по пятьсот фунтов в год.
– Да, тогда она сможет есть с моей матерью пирожные в «Ричмонде».
– Шутки в сторону, не согласится ли ваша мать как-нибудь принять Клару?
– А почему бы нет?
– Не представляете, как теперь изменилась вся моя жизнь.
– Наверное, и вы порядком изменили ее жизнь.
– Когда доживешь до моих лет, накопится столько всего, о чем можно пожалеть. И приятно сознавать, что хотя бы одного человека ты сделал чуточку счастливее.
Такого рода прямолинейные, сентиментальные и самоуверенные сентенции всегда вызывали у доктора Пларра чувство неловкости. Ответить на них было немыслимо. Подобное заявление было бы грубо подвергнуть сомнению, но и согласиться с ним невозможно. Пларр извинился и поехал домой.