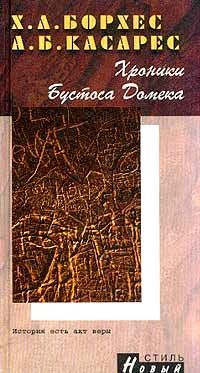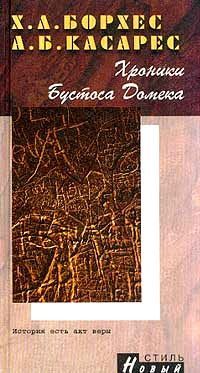Бомба, которую высиживал Сильвейра, не замедлила взорваться. В упомянутый день двое жандармов во главе с самим комиссаром подошли к деревянному домику на Безымянной улице. Они несколько раз постучали, наконец взломали дверь и с пистолетами в руках ворвались в хлипкое строеньице. Брадфорд тут же сдался. Он поднял руки вверх, однако не выпустил из руки бамбуковую трость и не снял шляпу. Ни минуты не медля, его завернули в принесенную ex professo [137] простыню и вынесли из дому, хотя он хныкал и отбивался. Блюстители порядка обратили внимание на то, что он легок как перышко.
Обвиненный прокурором Кодовильей в злоупотреблении доверием и покушении на нравственность, Брадфорд сразу же капитулировал, чем разочаровал своих приверженцев. Неоспоримая истина стала явной. С 1923 по 1931 год Брадфорд, этот пресловутый фланер, разгуливал по бульвару в Некочеа нагишом. Шляпа, черепаховые очки, усы, воротничок, галстук, цепочка часов, костюм и пуговицы, бамбуковая трость, перчатки, носовой платок, башмаки на высоком каблуке – все это были разноцветные рисунки, нанесенные на tabula rasa [138] его эпидермиса. В столь горестной ситуации ему могли бы оказать поддержку влиятельные друзья, занимавшие стратегически важные посты, однако выяснилось обстоятельство, их всех от него оттолкнувшее. Его экономическое положение было отнюдь не блестящим! У него даже не оказалось средств обзавестись парой очков! Пришлось их нарисовать, как и все остальное, включая трость. Судья обрушил на преступника всю тяжесть закона. Брадфорд же и далее явил нам свою закалку пионера, терпя мученичество в Сьерра-Чика [139]. Там он и скончался от бронхопневмонии, и на хилом его теле не было ни единой тряпицы, все только нарисованное.
Карлос Англада с присущим ему нюхом на самые прибыльные веяния модернизма посвятил страдальцу серию статей в «L'Officiel» [140]. Будучи председателем Комиссии по сооружению памятника Брэдфорду на Деревянном бульваре в Некочеа, он собрал подписи и значительные взносы. Насколько нам известно, памятник не был поставлен.
Больше осторожности и обтекаемости выказал дон Хервасио Монтенегро, надиктовавший в Летнем университете небольшой курс о нарисованной одежде и о тревожных перспективах, грозящих из-за нее портняжному делу. Неприятности и препятствия, пророчимые лектором, не преминули вызвать знаменитый «Ответ» Англады: «На него клевещут даже посмертно!» Не удовлетворившись этим, Англада вызвал Монтенегро на дуэль, предлагая скрестить перчатки на любом пятачке суши и, в порыве нетерпения поскорей осуществить свою riposte [141], вылетел в «боинге» в Булонь-сюр-Мэр. А тем временем секта разрисованных умножилась. Самые смелые неофиты, презрев неминуемые опасности, истово подражали пионеру-мученику. Другие, по характеру более склонные к piano, piano [142], пошли по среднему пути: toupet [143] из естественных волос, но монокль нарисованный и пиджак из неизгладимой татуировки. Касательно брюк промолчим.
Подобные предосторожности оказались неэффективными. Набрала силу реакция! Доктор Куно Фишерман, в тот период возглавлявший Бюро Общественных Связей Центра Шерстепроизводителей, опубликовал книгу под названием «Смысл белья и одежды – утепление», которую вскоре дополнил брошюрой «Оденемся!». Эти выстрелы наугад вызвали все же отклик в группе молодых людей – побуждаемые вполне понятным стремлением к действию, они появились на улице, катясь кубарем в «тотальном костюме» без единой щелочки, покрывавшем счастливого владельца с ног до головы. Излюбленными материалами были кожа с подкладкой и непромокаемая ткань, к которым вскоре прибавили шерстяную подушку для амортизации ударов.
Недоставало лишь эстетического элемента. Эту заключительную печать поставила баронесса де Сервус, указавшая новый курс. В качестве первого шага она вернулась к вертикальности и к высвобождению рук и ног. В содружестве со смешанной группой металлургов, художников по стеклу и производителей экранов и ламп она создала то, что начали называть «пластическим нарядом». Не считая трудностей, обусловленных весом, которые никто не пытался отрицать, «наряд» позволяет своему носителю вполне уверенно передвигаться. Он состоит из металлических секций, напоминая скафандр, доспехи средневекового рыцаря и аптечные весы, при движении сыплет искрами, слепящими пешехода, и издает дробный перезвон, этакую приятную звучащую сирену.
От баронессы де Сервус идут две школы, сама она (по словам сведущего человека) больше поощряет вторую. Первая школа – «Флорида»; вторая, в более народном духе, – школа «Боэдо» [144]. Приверженцы обеих школ, несмотря на нюансы разногласий, сходятся в том, что не рискуют появляться на улице.
В их дружеских спорах участвовал молодой Борхес, входивший во «Флориду».
Хотя к определению «функциональный» – как мы в свое время упоминали – в кругу архитекторов относятся с явным пренебрежением, в рубрике «Гардероб» оно завоевало прочные позиции. К тому же мужской наряд представляет собой соблазнительную мишень для атаки критиков-ревизионистов. Реакционеры потерпели очевидное поражение, тщетно пытаясь доказать красоту или даже пользу таких излишеств, как лацкан, обшлаг, пуговицы без дырочек, галстук-бант или лента на шляпе, названная поэтом «цоколь шляпы». Возмутительная произвольность этих бесполезных прикрас уже осознается широкой публикой. В этом плане решающим окажется приговор Поблета.
Нелишним будет напомнить, что новый порядок берет свое начало в одном пассаже англосакса Сэмюэля Батлера [145]. Этот господин подметил, что так называемое человеческое тело является проекцией творческой силы и, при ближайшем рассмотрении, между микроскопом и глазом нет разницы, ибо первый есть усовершенствование второго. То же самое можно утверждать о палке и ноге – согласно пресловутой загадке из края пирамид и Сфинкса. Тело в целом – это машина: рука действует так же, как «ремингтон», ягодицы – как деревянный или электрический стул, конькобежец – как коньки. А посему нет ни крупицы смысла в бегстве от механизма, ведь человек – нечто вроде первого наброска того, что под конец дополняется очками и креслом на колесах.
Как нередко случается, большой рывок вперед осуществился благодаря счастливому союзу действующего в тени мечтателя и предпринимателя. Первый, профессор Луцио Сцевола, начертал общую схему; второй, Нотарис, возглавлял солидную фирму «Скобяные изделия и распродажа старых вещей», которая, сменив профиль, называется теперь «Функциональная одежда Сцеволы – Нотариса». Позволим себе рекомендовать тем, кто этим интересуется, посетить – без каких-либо обязательств – вполне современное заведение упомянутых коммерсантов, где к вашему случаю отнесутся с величайшим вниманием, Опытный персонал за умеренную цену удовлетворит ваши потребности, снабдив вас патентованной «перчаткой-мастером», две части которой (точно соответствующие двум рукам) включают следующие пальцеудлинители: пробойник, штопор, авторучку, художественно выполненную каучуковую печать, стилет, шило, молоток, отмычку, трость-зонт и автогенный сварочный аппарат. Иные клиенты, возможно, предпочтут «шляпу-универсал», позволяющую переносить продукты, ценности, а то и крупные предметы. Еще не поступил в продажу «костюм-архив», где карман заменен ящиком. «Седалища» с «двойной пружинной прокладкой», за которую ратуют изготовители стульев, завоевали признание потребителей, и их успех избавляет нас от необходимости рекомендовать их в данной рекламе.
Парадоксальным образом тезке «чистой истории», одержавший победу на последнем конгрессе историков в По [146], представляет немалое препятствие для правильного понимания упомянутого конгресса. В явном противоречии с этим тезисом мы принялись рыться в отделе периодики Национальной библиотеки, изучая газеты за июль текущего года. Работа, впрочем, оказалась вполне по нашим силам – многоязычный бюллетень подробно освещал жаркие дебаты и вывод, к которому пришли участники конгресса. Главной была тема «История – наука или искусство?». Беспристрастные наблюдатели отметили, что оба враждующих лагеря ссылались на одни и те же имена: Фукидид, Вольтер, Гиббон, Мишле. Не хотим тут упустить удобный случай поздравить делегата из Чако [147] сеньора Гайфероса [148], смело предложившего участникам конгресса предоставить особо почетное место нашей Индо-Америке, начиная, естественно, с Чако, знаменитого края, давшего много славных имен. Как часто бывает, произошло непредвиденное: единодушную поддержку снискал, как известно, тезис Севаско «История есть акт веры».
Поистине настало время для того, чтобы получила всеобщее признание эта идея, революционная и свежая, хотя и подготовленная долгими размышлениями на протяжении веков. И впрямь не найдется ни одного учебника истории, какого-нибудь Гандиа [149] и т. п., в котором, более или менее развернуто, не был бы представлен тот или иной подтверждающий ее прецедент. Двойная национальная принадлежность Христофора Колумба, победа у берегов Ютландии, которую в 1916 году одновременно приписали себе англосаксы и германцы, семь городов – родин известного писателя Гомера – эти случаи, несомненно, всплывут в памяти среднеобразованного читателя. Во всех приведенных примерах пробивается в эмбриональной форме воля к утверждению своего, автохтонного, родимого. Вот сейчас, когда мы с открытой душой сочиняем эту добросовестную хронику, нам все уши прожужжали споры по поводу Карлоса Гарделя [150]: для одних он Красавчик с Мясохладобойни, для многих – уругваец, вроде Хуана Морейры [151], а котором спорят враждующие просвещенные поселки Морон и Наварро [152], уж не говоря о происхождении Легúсамо, – боюсь, что он с Восточного Берега [153].