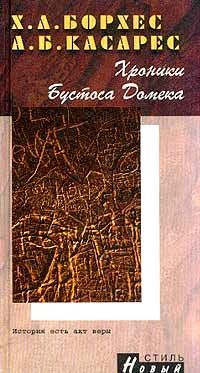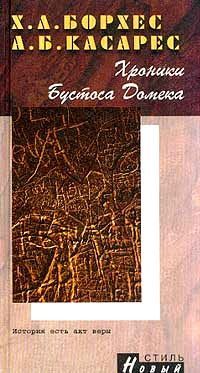Этот многогранный Виласеко
Самые бойкие перья, цвет гробокопательского цеха критики, убеждают нас, – и справедливо! – что многообразное творчество Виласеко, более чем кого-либо другого, представляет развитие испаноязычной поэзии нашего века. Первое его творение, поэма «Шипы души» (1901), напечатанная в «Заморском вестнике», – это приятная поделка новичка, который в поисках самого себя еще ходит на четвереньках и неоднократно впадает в безвкусицу. Она предполагает скорее труд читателя, нежели труд возвышенного таланта, ибо пестрит влияниями (как правило, чуждыми) Гвидо Спано и Нуньеса де Арсе [124], с заметным преобладанием Элиаса Регулеса [125]. Чтобы долго не распространяться, скажем, что ныне вряд ли кто вспоминал бы об этом грешке молодости, когда бы не яркий свет, который бросают на него последующие творения. Позже он опубликовал «Грусть фавна» (1909), такой же длины и такой же метрики, как предыдущее сочинение, однако эта поэма уже отмечена печатью модного модернизма. Потом его увлечет Каррьего; в журнале «Лица и личины» [126] в ноябре тысяча девятьсот одиннадцатого года появилась его третья «личина», под названием «Полумаска». Несмотря на влияние, оказанное певцом буэнос-айресских окраин [127], в «Полумаске» ярко проявляется неординарная личность, возвышенный слог зрелого Виласеко времен «Калейдоскопа», вышедшего в свет в журнале «Форштевень» под знаменитой виньеткой Лонгобарди. Дело на этом не остановилось: год спустя он издаст едкую сатиру «Змеиные стихи», необычная резкость языка которой оттолкнула от него – навсегда! – некий процент ретроградов. «Эвита главнокомандующая» датируется годом тысяча девятьсот сорок седьмым и с большой помпой была разыграна на Пласа-де-Майо [128]. Назначенный вскоре вице-директором Комиссии по культуре, Виласеко посвятил этот свой досуг планам поэмы, которая оказалась бы – увы! – последней, ибо он скончался намного раньше, нежели Тулио Эррера, до сих пор цепляющийся за жизнь с упорством спрута. «Ода единству» была его лебединой песней, посвященной разным провинциям. Он умер внезапно в расцвете старости, успев, однако, собрать в одной книге свои столь разнородные творения. Согласно патетическому завещанию, которое он, по нашему дружескому настоянию, подписал in articulo mortis [129], за несколько минут до того, как его увезла похоронная карета, книга его будет распространяться в избранном кругу библиофилов по подписке, каковая принимается в моем доме на улице Посос. Пятьсот тщательно пронумерованных экземпляров на мелованной бумаге, они практически составляют editio princeps [130] и, после предварительного взноса наличными, будут пересланы по почте, хотя она у нас ползет как черепаха.
Поскольку обстоятельное критическое предисловие, напечатанное курсивом (корпус четырнадцать), было начертано моим пером, я физически изнемог (анализ показал уменьшение количества фосфора), пришлось призвать одного недоумка для вкладывания в конверты, наклеивания марок и надписывания адресов. Этот фактотум, вместо того чтобы заниматься назначенной ему работой, тратил драгоценное время на чтение семи творений Виласеко. Таким способом он обнаружил, что, кроме названий, все они были одним и тем же произведением. Они не отличались ни одной запятой, ни точкой с запятой, ни единым словом! Это открытие, нечаянный дар случая, разумеется, не имеет никакого значения для серьезной оценки разноликого Виласекова творчества, и если мы напоследок о нем упоминаем, то лишь как о простом курьезе. Это soi disant [131] родимое пятно прибавляет ему несомненный философский нюанс, еще раз доказывая, что, несмотря на всякие мелочи, сбивающие с толку пигмея, Искусство едино и уникально.
Существует угроза, что, застигнутая врасплох бурно возрождающейся фигуративной живописью, канет в Лету память о нашем аргентинском светиле, Хосе Энрике Тафасе, погибшем двенадцатого октября 1964 года в водах Атлантического океана, на престижном курорте Кларомеко. Молодой адвокат, но зрелый мастер кисти, Тафас оставил нам свое строгое учение и светозарное творчество. Было бы грубой ошибкой путать его с устаревшим легионом живописцев-абстракционистов: он пришел к той же цели, что и они, но совершенно иным путем.
Храню в памяти на самом почетном месте воспоминание о том ласковом сентябрьском утре, когда мы, по милости случая, познакомились у киоска, изящный силуэт которого еще и теперь красуется на шумном углу улицы Бернардо Иригойен и Авениды-де-Майо. Мы оба, опьяненные молодостью, явились туда в поисках одной и той же почтовой открытки с цветным изображением кафе «Тортони». Решающим моментом было это совпадение. Откровенные речи увенчали то, что начала улыбка. Не скрою, меня разобрало любопытство, когда я увидел, что мой новый Друг дополнил свое приобретение двумя другими открытками – то были «Мыслитель» Родена и «Отель „Эспанья"». Оба мы боготворили искусство, обоих вдохновляла небесная лазурь, и наша беседа быстро поднялась до злободневных тем; ее ничуть не стесняло – как вполне можно было опасаться – то обстоятельство, что один из нас уже был известным писателем, а другой – всего лишь обещанием безвестного художника, чей талант еще только таился в его кисти. Покровительственное имя Сантьяго Гинсберга, общее наше с ним знакомство послужило первой ступенью. Потом пошли анекдоты о каких-то дутых величинах того времени, а на десерт, разгоряченные несколькими кружками пенистого пива, мы предались легкому, порхающему обсуждению вечных тем. Условились встретиться в следующее воскресенье в кондитерской «Трен миксто» [132].
Именно тогда, сообщив мне о своем отдаленном мусульманском происхождении, – его отец прибыл на наши берега завернутый в ковер, – Тафас попытался мне объяснить, какую цель поставил он перед своим мольбертом. Он сказал, что в Магометовом Коране, уж не говоря о русских [133] с улицы Хунин, строго-настрого запрещено изображать человеческие лица и фигуры, птиц, быков и другие живые существа. Как же тогда работать кистью и красками, не нарушая заповеди Аллаха? В конце концов он нашел выход.
Некий уроженец провинции Кордова внушил ему, что, прежде чем вносить в искусство какое-нибудь новшество, надо показать, что ты, как говорится, овладел им и можешь соблюсти все правила не хуже заправского мастера. Лозунг наших времен – ломать старые формы, но претендент должен вначале доказать, что усвоил их на «отлично». Как сказал Лумбейра, хорошенько напитаемся традицией, прежде чем выбросить ее на помойку. Тафасу, этому чудесному человеку, запали в душу столь здравые речи, и он осуществил их на практике следующим образом. Сперва он с фотографической точностью изображал виды Буэнос-Айреса внутри малого городского кольца – отели, кондитерские, киоски, статуи. Это он никому не показывал, даже закадычному другу, с которым делил в баре одну кружку пива на двоих. Затем он стирал рисунок хлебными крошками и смывал водой из чайника. Наконец, замазывал его гуталином так, чтобы картинки стали сплошь черными. Да, честность побудила его указать на каждом из своих творений, которые все были одинаково черны, правильное название, и на выставке вы могли прочитать: «Кафе „Тортони"» или «Киоск, где продаются почтовые открытки». Цена, конечно, была неодинакова – она различалась в зависимости от нюансировки красок, от ракурсов, композиции и так далее в зачерненной картине. Вопреки протесту группы абстракционистов, которые не могли примириться с названиями, Музей Изящных Искусств поддался, приобрел три вещи из одиннадцати за сумму, от которой налогоплательщик лишился дара речи. Выражая общественное мнение, критики склонялись к похвалам, но одному нравилась одна картина, другому – другая. Правда, все отзывы были в благожелательном духе.
Таково творчество Тафаса. Нам известно, что он готовился написать на Севере большую фреску на индейские мотивы и, написав, покрыть гуталином. Как жаль, что его гибель в водной пучине лишила нас, аргентинцев, этого шедевра!
Как известно, описываемая революция началась в Некочеа [134]. Дата – интересный период между 1923 и 1931 годами; главные действующие лица – Эдуарде С. Брадфорд и отставной полицейский комиссар Сильвейра. Первый, субъект с неопределенным статусом, стал непременной принадлежностью старинного Деревянного бульвара, что не мешало ему появляться на thé danзants [135], на благотворительных лотереях, на детских именинах и на серебряных свадьбах, на утренней мессе, в бильярдном зале и в самых аристократических шале. Многие помнят его облик: мягкая плетеная шляпа с гнущимися полями, очки в черепаховой оправе, волнистые крашеные усы, не скрывающие тонких губ, воротничок с отогнутыми уголками и галстук-бант, белый костюм с импортными пуговицами, на манжетах запонки, ботинки на высоком каблуке, увеличивающие довольно низкий рост, в правой руке бамбуковая трость, левая удлинена светлой перчаткой, мерно колеблемой атлантическим бризом. Речи его, исполненные добродушия, касались самых различных предметов, но напоследок сводились ко всему связанному с подкладками, подшивками, накладками, шляпами, бархатными воротниками и пальто. Подобное предпочтение не должно нас удивлять – он был ужасный мерзляка. Никто никогда не видел, чтобы он купался в море, а по бульвару он шагал из конца в конец, втянув голову в плечи, скрестив руки либо засунув их в карманы, и весь дрожал от холода. Другая особенность, не ускользнувшая от наблюдателей, которые всегда найдутся, – хотя все видели цепочку часов, соединявшую лацкан пиджака с левым кармашком, – он упорно отказывался сообщать, который час. Бескорыстие его не ставилось под сомнение, однако в ресторанах он не платил по счету и не подал нищим ни одного сентаво. То и дело его сотрясали приступы кашля. Общительный он был на диво, но с похвальной церемонностью держался от собеседника на расстоянии. Его любимым изречением было: «Noli me tangere» [136]. Со всеми он был в приятельских отношениях, но ни для кого не открывал дверь своего дома, и до рокового третьего февраля 1931 года сливки здешнего общества знать не знали, где он проживает. За несколько дней до злополучной даты он, по словам одного из свидетелей, зашел в лавку для художников, держа в правой руке бумажник, и вышел из лавки с тем же бумажником и большим цилиндрическим пакетом. Возможно, никто так бы и не проник в его тайну, если бы не проницательность и упорство отставного полицейского комиссара Сильвейры, в котором инстинкт ищейки пробудил недоверие. Несколько сезонов он с величайшей осторожностью следил за нашим героем, причем тот, казалось бы ничего не замечавший, всякий раз скрывался за углом и исчезал в темных улицах предместий. Деятельность соглядатая стала притчей во языцех в здешних кругах, и нашлись люди, которые начали сторониться Брадфорда и вместо прежних шутливых бесед ограничивались сухим кивком. Тем не менее многие почтенные семьи окружали его деликатным вниманием, чтобы выказать свое сочувствие. Более того, на бульваре появились субъекты, подражавшие ему и, как выяснилось на следствии, одевавшиеся так же, как он, только менее щеголевато, и имевшие вид изрядно нуждающихся.