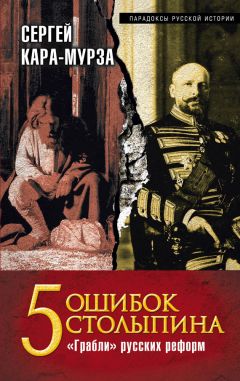И потому он преступен».
Голос Тётьки-Клавки заполняет всю кухню и оттуда вливается в гардеробную. Он бьется о барабанные перепонки Максима, резкий и беспомощный:
«…Его собака жива. Но нет больше на свете моей кошки. Пусть же он расплатится хотя бы за это. Охотник из четвёртого подъезда обещал мне убить собаку. И это — справедливо!»
«По-моему, это жестоко!» − возражает ей материнский голос, любующийся своим сочувствием к Машкину — или всё равно к кому.
«По-моему, это справедливо», − говорит Тётька-Клавка, любуясь своей принципиальностью, вырастающей в ответ.
«Ах, может, и справедливо, но как-то не по-женски…»
«Значит, тем более верно! − торжествует Тётька-Клавка, предвкушая полную победу в споре. − Ведь только мужчины способны на жестокость сиюминутную во имя блага последующего. У женщин в поступках обратная зависимость: они творят благо − во зло… Они поступают так, чтобы сейчас − было всё хорошо.
Пусть это обернётся трагедией завтра, но лишь бы сейчас − было всё хорошо. Так что, спрашивается, лучше?»
«Хм… Но ведь не любое зло во благо, как не любое благо во зло. И потом… нет ничего уродливее смещения естественной, природной логики поступков. То, что естественно для мужчины, − уродливо в женском переложении», − нерешительно сопротивляется мать.
«А разве не по-женски − сначала поступить, а потом придумать оправдание поступку? Пусть даже по схеме мужской логики? Как это сделала сейчас я? − окончательно побеждает Тётька-Клавка и хохочет басом долгое время. − Что за духи? Не возражаешь?»
«Ой, да на здоровье!» − слова матери при этом всегда звучат так, будто ей приятно от того, что Тётька-Клавка опять выливает на себя полфлакона французских духов.
Наконец оглушительно хлопает входная дверь, и все голоса за стеной пропадают разом. Максим сидит, уткнув голову в колени. Он понимает, что сейчас он должен войти в течение третьей жизни, он должен бежать туда и спешно объяснять тяжёлую правду. Он должен бежать сейчас, не медля!.. Но он так давно не чувствует жизни своего «я». А без этого нет сил пробить собою плотную, липкую оболочку чужого пустословья. Оболочку лжи и притворства этой третьей жизни, в которую он пытается войти и тщетно примеряет ее на себя. Он примеряет её на себя, хотя она давно отторгнута им, и потому у него ничего не получается. Завязнуть же в оболочке, не достигнув цели, представляется ему самым ужасным. Ужасным и неизбежным.
Максим сидит, уткнув голову в колени. Он вне всяких жизней, но и себя в нём нет. А без этого нет сил вернуться и прожить ещё хоть немного в третьей жизни.
Максим сидит, прислонясь к холодной стене.
Монотонно тянутся уроки в школе. Монотонно шумит в ушах серое время.
Оно безголосо шумит почти до самых выпускных экзаменов. И наконец шум времени обрывается.
Выстрел, раздавшийся в мире, заставляет Максима поднять голову.
«Собака Машкина… − рождается в нём душное понимание. − Ты знал, что так будет».
По лестнице четвёртого подъезда поднимается Охотник.
«Не всякий человек − хозяин на земле, − бормочет он, качая головой, и от его ружья пахнет жжёным порохом. − Хозяин над тварью и над другим человеком лишь тот, кто умеет управлять собственными мыслями, не давая им управлять собой. Хозяин тот, чьи мысли не загромождены баррикадами сомнений. Правит миром свободное от сомнений движение силы, ибо только оно − дело. Потому хозяин жизни − Человек-Не-Сомневающийся!.. Найдите же мне человека, который бы сомневался в себе меньше чем охотник − и я вам похлопаю в ладоши!»
Охотник поднимается всё выше и выше.
«…И я вам — похлопаю. Я − вам».
Шум летящего камня возникает в гардеробной из ничего и уходит в никуда.
«Сын… − тихо зовёт Максима усталый голос матери. Когда женщина бывает усталой, у неё не хватает сил на то, чтобы быть плохой, и тогда она бывает настоящей. — Сын!.. Камень, брошенный в живое, летит гораздо дольше, чем нам кажется. И попадает не только в того, в кого мы его бросили.
Камень, брошенный в живое, летит дольше и дальше, чем нам кажется. Трудно остановить сразу инерцию движения зла… Прости меня, сын! Прости меня за то, что я умела только чувствовать это. Но никогда не умела понять. Понять, чтобы объяснить это тебе.
Прости меня за то, что я чувствую не понимая…»
Максим молча стоит в своей комнате. С картины, парящей в воздухе, смотрят светлые, удлинённые глаза женщины. Чёткий выпуклый цветок, слетающий с её пальцев, ослепительно, невыносимо чист, и от резкости его белизны распирает горло, как от крика.
Максим морщится от боли в горле. Он старается отвернуться — и не может… Мизинец женщины изогнут так, как никогда не бывает в жизни! Но как отчуждён и строг её рот!.. Дымчатые волны одежд колышутся на картине…
«Я грязен! − молча кричит он себе, не слышащему себя. − Я грязен, потому что по моей вине свершается непоправимое. Я − грязен!»
Он смеётся резко и отрывисто, чужим смехом своей прошлой, третьей, жизни.
Учитель Машкин поднимает взгляд от остановившихся часов:
«…Ты грязен, Максим. Ты грязен настолько, насколько ты чист. Ты грязен, потому что ты чист…
Когда собаки не стало, в пустой своей жизни я жил до весны. А весной ребята снова ушли от меня, и место моё среди них исчезло в прошлом. Тогда меня нашли мёртвым на берегу реки.
Я странно умер − так решили люди.
Я не убил себя. Я лежал на берегу и смотрел в воду − она подрагивала от моего дыхания. Была ночь, и на воде покачивались звёзды. Они были похожи на белые цветы, которых я никогда не видел в жизни.
Мне незачем было идти назад. Я не хотел идти никуда. Звёзды качались под моим лицом и мерцали. Я не убил себя. Я опустил голову в белые звёзды».
В остановившемся глухом времени начался день и предпоследний урок в жизни. Максим выбежал из класса. Он бежал по коридору, по асфальту школьного двора, и бег его был гулким, как удары сердца, сорвавшегося с ритма. И только время молчало.
Сбив с ног кого-то, он остановился резко и удивлённо. Он торопливо помог подняться новой учительнице химии. Она стояла перед ним, растирая ушибленный локоть. Мгновенье они смотрели друг другу в глаза, и наконец боль её глаз перешла в глаза Максима. В ту минуту солнце зашло за облако.
Стало пасмурно, как при затмении. И тогда он коснулся её локтя губами. Он быстро поднял глаза, опасаясь, что она ему привиделась. Светлые глаза женщины смотрели на Максима и слышали его. И рот её был сжат отчуждённо и строго.
Он вздохнул.
Воздух улицы, ворвавшийся в лёгкие, внёс в него гул машин и синюю холодность неба. Его «я», которое он давно отвык ощущать, возникло в нём в тот же миг свободно и почти безболезненно. Он пригнулся и не глядя сломил стебель первого подвернувшегося под руку цветка со школьной клумбы.
Женщина, так же не глядя, взяла цветок, белый и странный в своём белом свечении в сумраке дня.
Женщина молчала и слышала его нежное «я». Цветок слетал с её пальцев не слетая.
Неожиданное беспокойство отстранило Максима − что-то было не так.
«Что же не так?» − думал он, слушая мелодию речи их новой учительницы химии, объяснявшей у доски и писавшей формулы белым — на чёрном. Она знала, как два вещества, соединяясь, превращаются в новое − третье.
Он огляделся. За партами сидели его одноклассники, и он увидел их лица так чётко, как никогда до этого: они были людьми его четвёртой, но единственной теперь жизни, потому что в ней уже была она.
«Сейчас она слово в слово произносит то, что тысячу раз произносил на уроках он, − почувствовал Максим. — Он тоже знал, как два вещества, соединяясь… Но сам он — уронил голову в звёзды. Уронил в холодные звёзды».
«Что-то не так…» − с отрадой мучилось его ожившее «я».
− Ты меня любишь? − спросил Максим.
Замер класс, и она замолчала.
− Любишь?
В наступившей тишине шум времени стал слышен всем.
− Да, − сказала она.
Он вышел из класса, улыбаясь беспокойно и счастливо.
«Что же не так?» − монотонно и торжественно стучало в висках. Слова вспыхивали в нём и ложились на лица прохожих, словно тень его взгляда. Он смотрел в лица встречных и видел, как они усмехались на ходу его словам. И тогда он опустил веки. Чтобы не видеть слова самому и чтобы их не видели другие. Он боялся усмешек, и сейчас − сильнее, чем когда-либо.
Усмешки могли достичь его открытого теперь всем «я». И тогда наступила бы боль, делающая его слабым и лишающая возможности додумать, что же не так…
В его комнате, над старым ковром, картины не было. Он почувствовал пугающую робость и растерянность.
Картины не было. И тут же он увидел её.
Картина стояла в воздухе прямо перед ним. Он жадно увидел её − всю сразу и подетально. Светлые глаза женщины слышали его − и это впервые не удивило.