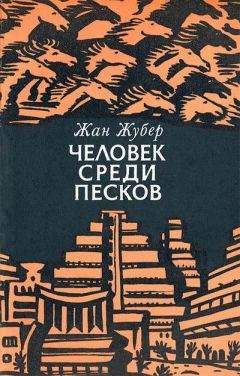— Хорошо, подумаю.
— Спасибо, — сказал он. — Признаться, меня все это тревожит. Разумеется, зря. Просто по глупости. Но когда человека что-то тревожит, ему плохо работается.
Он резко сменил тему разговора.
— Моя жена здесь скучает, я чувствую, ей не нравится Калляж. Думаю, она не понимает всей важности того, что мы делаем. Да, она скучает, и этим все сказано. Она типичная горожанка, привязана к городу, я имею в виду уже построенному.
— А Софи?
— Ну, с Софи все в полном порядке! С недавних пор она воспылала любовью к животным. Является вечером домой и притаскивает полные коробки пауков, кузнечиков, стрекоз, а вчера даже скорпиона где-то нашла. И тоже все время болтает о быках, лошадях… Не знаю, от кого только она набралась всего этого. Назадавала мне уйму вопросов о пастухах. Ну что я могу ей сказать? Да, и еще потребовала от меня лошадь.
— Ну вот видите, и она тоже!
Он засмеялся.
— Да, и она тоже. Понятно, я не сказал ни да ни нет. Надо еще подумать.
Элизабет почти перестает выходить из дома.
Поначалу ее еще видели на стройке вместе с Дюрбеном. Он что-то оживленно говорит ей, широким жестом обводит огромные белые сооружения, словно творит воочию то, что однажды поднимется там из песка. В этом ласкающем жесте руки — и счастье, и любовь. И просьба разделить с ним эти чувства. Элизабет стоит неподвижно, смотрит. Большие черные очки скрывают лицо, которое, впрочем, не выражает ничего. Волосы, ее забраны в узел и приглажены на висках. По временам тонкие губы морщит улыбка, жестокая улыбка. Но Дюрбен, очевидно, ничего не замечает, раз он продолжает показывать на простирающуюся за машинами и кранами песчаную равнину, и губы его по-прежнему шевелятся, хотя не слышно, что он говорит. И возможно, именно потому он и продолжает говорить, чтобы не наткнуться с размаху на это гнетущее молчание, молчание, тяжесть которого он не мог не ощущать в глубине души, молчание, которое не в силах были заглушить даже звуки его собственного голоса.
Элизабет красавица. У нее и поступь королевы. Сразу видно, что платья ее, даже самые простенькие, сшиты лучшими портными столицы. Здесь, на Юге, ее светлые волосы и белизна кожи поражают. Когда она приближается, мужчины опускают глаза и делают вид, что заняты своим делом. Если Дюрбен обращается к ним, они, отирая со лба пот, смотрят только на него, а не на его жену, словно она невидимка. Но как только она отходит, они украдкой глядят ей вслед. Можно подумать, что она внушает людям не только удивление, но и страх.
Зачем она приехала в Калляж? Ей не нравится эта скучная, плоская, почти дикая равнина, не нравится стройка, ибо она сразу же поняла, что ей не царить здесь. Неужели Дюрбен простодушно рассказал ей о «маленькой принцессе» и голос его выдал? Боюсь, что именно так и было. Элизабет побывала в церкви, строительство которой еще не было закончено. Я тоже там был. Я не спускал с нее глаз. Под белыми сводами в пересекающихся лучах света она оставалась холодна как лед, и я вдруг понял, что такая женщина может ревновать даже к мертвой.
Я надеялся, что близость моря примирит ее с Калляжем, но огромный пустынный пляж наводит на нее тоску, песчаная пыль, которую вздымает в воздух даже легкое дуновение ветерка, раздражает ее кожу; она жалуется еще на страшную жару. Рассказывает мне о курортах, где обычно проводила лето: о великолепных отелях, парках, теннисных кортах, казино. Я знаю эти города, где роскошные здания подступают к морю словно крепостная стена. Так вот что ей по душе! Я догадываюсь, что здесь ее все пугает: она чувствует себя одинокой, легко уязвимой.
И вот постепенно она почти перестает выходить из дома. Из их новенького, чистенького коттеджа, стоящего в тени сосен. Спасаясь от солнца, она опускает шторы. Дверь дома открывается, лишь когда рано утром Дюрбен идет на работу или когда выходит Софи с коробкой в руках и сачком на плече и упругим шагом пробирается между дюнами к ближним лагунам, которые она превратила в свое личное угодье. А Элизабет теперь совсем не показывается. Можно подумать, в доме нет ни души.
Я уже говорил, как я люблю помечтать. Сколько раз я представлял себе Элизабет в комнате, где на белых стенах лежат тоненькие полоски света, пробивающиеся сквозь планки жалюзи. На голое тело она накинула прозрачный пеньюар, который я видел у нее в первые недели ее приезда, когда она еще выходила на террасу. Она сидит, скрестив ноги, и полирует ногти или часами расчесывает волосы, а может быть, перебирает свои платья, которые ей некуда надевать. Она ест грейпфрут, слегка причмокивая. Перелистывает журналы или книги, которые ей сюда присылают каждую неделю из столицы, — конечно, модные романы, которые она начинает и бросает недочитанными на ковер. Ставит на проигрыватель одну из тех, на мой слух просто варварских, пластинок — последний крик джазовой музыки, — и, когда ветер дует в мою сторону, до меня доносятся обрывки мелодий, и это единственные признаки жизни в раскаленном жарой дне. Ложится на ковер, сгибает колени и часами смотрит в потолок. Пусть даже временами рука ее тянется к бутылке виски, стоящей возле постели, и она наливает себе немного в стакан и разом выпивает. Потом облизывает край стакана. Улыбается самой себе. Выходит, она опускается? Еще немного виски? Вот, значит, в чем ее слабость! Но не слишком ли я расфантазировался, ведь никаких доказательств у меня нет.
Прислуга ушла. День клонится к вечеру. Элизабет скучает. Ей противны головастики, саламандры, скорпионы, которых притаскивает домой Софи. Дюрбен вернется с обожженным солнцем лицом, восторженный или озабоченный. Она спросит:
— Что так поздно?
— Нужно было закончить одну работу…
Он, вероятно, начнет объяснять, но она не станет слушать и под конец скажет:
— Зачем я здесь торчу? Такие пустые дни… Давай уедем куда-нибудь отсюда, проведем несколько дней вместе. Ну, например, субботу и воскресенье…
— Я отлично понимаю тебя, Элизабет, но сейчас это невозможно. Через три месяца, осенью, сколько угодно.
Тогда, словно внезапно подхваченная волной, она кричит:
— Мне надоело, я болтаюсь здесь просто так, я никому не нужна. Я уеду.
— Ну-ну, Элизабет…
И он снова пустится в объяснения: Калляж… времени в обрез… его жизнь поставлена на карту… нетерпение… терпение… Он положит ей руку на плечо, но она отшатнется и посмотрит на него злым, холодным взглядом, который я не раз подмечал.
— Нет!
Он подумает о том, что Софи, которая напевала что-то в своей спальне, конечно, все слышала. И теперь умолкла. Охваченная беспокойством, насторожившаяся. Он потопчется с минуту на месте, а затем выйдет, захватив с собой неотложные дела, за которыми просидит до полуночи. Наступят сумерки, и прекрасные сине-лиловые блики побегут по морю, но они ничего не увидит.
После невыносимой жары наступали на редкость мягкие вечера, заполненные щебетом птиц, треском кузнечиков и звуками гитары, доносящимися из бараков. Под звездным небом с неясным бормотанием волн струился ветер.
Дюрбен подарил Элизабет большую белую открытую машину, и я поймал себя на мысли, что таким образом, сознательно или нет, он дал ей в руки нить, но бывает, что и самые крепкие нити рвутся.
До сих пор я видел болота лишь мельком, когда проезжал по шоссе, или те, что лежали в окрестностях Калляжа. Короче говоря, я ничего не знал о болотном крае. А это мир, куда следует проникнуть. Со стороны его не узнать, как не узнать той женщины, которой еле коснулся. И если образ женщины пришел мне на ум, то лишь потому, что я уже понял: в такие края влюбиться легко. Я чувствовал, что это может произойти и со мной.
Я направился вглубь по неведомым мне дорогам. Остановил машину. Ветер шуршал в тростнике, колыхал тонкие его метелки. Вдали перекликались птицы. Их крылья шелестели в сухой листве. Время от времени невидимый зверек спрыгивал в канал, над которым я шел по насыпи. То там то сям попадались черные плоскодонки, сети и лебедки — тоже черные и почему-то напоминавшие мне орудия пыток. Да, поистине в этих местах на деготь не скупились, и я думал о том, что край этот создан для засад. Внезапный прыжок из зарослей тростника, быстрый удар — никто не видел, никто не знает! Только поистине бесшабашный человек может пуститься в погоню! Меня охватило чувство тревоги, нерешительности, прошибал холодный пот. Но кто не испытывал подобного чувства перед женщиной, в которую вам суждено влюбиться? Как видите, я снова обращаюсь к языку любви.
Солнечный закат над лагуной, перелетные птицы, известковые стены ферм, косяк лошадей, пасущихся на лугу, поросшем плакун-травой, — все приводило меня в восторг. Еще немного — и я позабыл бы о существовании Калляжа, о поручении, которое мне дал Дюрбен.
Но я все же собрался с духом и, не поддавшись зову сирен, направился в сторону деревень, которые в этом краю, где фермы разбросаны далеко друг от друга, представляют собой лишь кучку приземистых домишек, жмущихся к церкви. Я вспомнил о своем обещании Симону, к тому же у меня всегда была слабость к выполнению тайных поручений.