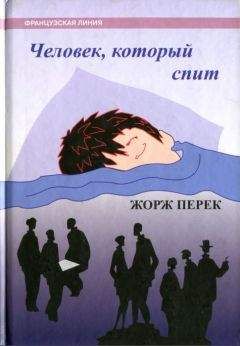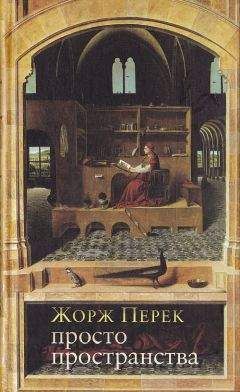Ты складываешь свою одежду перед тем, как лечь спать. Ты проводишь генеральную уборку своей комнаты каждую субботу. Ты застилаешь кровать каждое утро, ты бреешься, ты стираешь носки в розовом пластмассовом тазу, ты чистишь обувь, чистишь зубы, моешь чашку, вытираешь ее и ставишь на полку, на одно и то же место. Каждое утро, в одну и ту же минуту, в одном и том же месте, одним и тем же образом ты отрываешь полоску бумаги, склеивающую твою ежедневную пачку «Голуаз».
Порядок твоей комнаты. Распорядок твоего времени. Ты навязываешь себе глупейшие запреты. Ты не ходишь по стыкам мостовых и тротуаров. Ты идешь по направлению движения, ты не останавливаешься в местах, запрещенных для стоянки. Ты не позволяешь себе приходить слишком поздно или слишком рано. Ты хотел бы закуривать каждые сорок пять минут.
Как будто в любой миг ты ждешь, что малейшее из твоих уклонений заведет тебя сразу слишком далеко.
Как будто в любой миг тебя так и подмывает сказать: это так, потому что я так захотел, я так захотел, иначе я бы не выжил.
Иногда, полулежа на своей узкой кушетке, довольствуясь бледным и рассеянным светом, который падает от окна и почти регулярно подсвечивается красным огоньком твоей сигареты, ты весь вечер слушаешь шаги своего соседа. Стенка, разделяющая ваши комнаты, настолько тонка, что ты почти слышишь его дыхание, ты слышишь его шаги, даже когда он ходит в тапочках. Ты часто пытаешься представить себе, как он выглядит: его лицо, руки; его занятия, возраст, мысли. Ты ничего о нем не знаешь, ты даже никогда его не видел, быть может, лишь только однажды, когда столкнулся с ним на лестнице и прижался к стене, чтобы дать ему пройти, но ты не знал, не мог быть уверенным, что это именно он. Впрочем, ты не ищешь возможности с ним увидеться, ты не приотворяешь свою дверь, когда слышишь, как он выходит из комнаты и подходит к крану в коридоре, чтобы налить воды в чайник, ты предпочитаешь его слушать и создавать его образ по своему усмотрению. Ты только знаешь, что его комната намного больше, чем твоя, поскольку он может по ней передвигаться, поскольку он должен по ней передвигаться, чтобы дойти до окна, кровати, двери или шкафов, тогда как ты, стоя в центре своей комнаты — две трети которой занимает кушетка, — можешь, не отрывая пяток, дотянуться руками до любой точки: окна, двери, маленькой раковины, вешалки в углу, розового пластмассового таза, этажерки.
Если судить по чуть хриплому кашлю, сипению и шаркающим шагам, сосед, должно быть, стар, хотя возраст не может служить объяснением его одиночеству: как и ты, он никогда никого не принимает у себя в комнате, словно последний этаж здания — чьими единственными, насколько тебе известно, жильцами вы являетесь — представляет опасность для всякого, кто задумал бы сюда дойти. Возраст не объясняет и более чем ритуальную пунктуальность в распорядке дня; второй момент скорее говорит о том, что он, опять же как и ты, человек привычек, но наверняка более уравновешенный. Он уходит из дома каждый день, даже по воскресеньям, поздним утром и неизменно возвращается поздним вечером, как если бы его деятельность, будь она прибыльной или нет, регламентировалась дневным светом и не зависела от расписаний по часам: до Рождества он возвращался чуть раньше, теперь он возвращается каждый день чуть позже.
Ты думаешь, что он уличный торговец, продавец галстуков, привязанных внутри зонта, или демонстратор каких-нибудь чудодейственных средств против мозолей, пятен, бородавок, расширения вен, или скорее мелкий галантерейщик, устанавливающий на четырех раздвижных металлических ножках свой прилавок — открытый чемодан — и предлагающий зевакам с Больших бульваров расчески, зажигалки, пилки для ногтей, солнечные очки, футляры, брелки для ключей. Твое предположение строится исключительно на том, что основная деятельность соседа, когда он дома, сводится к тому, что он, как утром, так и вечером, выдвигает или задвигает или выдвигает и задвигает ящики, словно там хранится значительное количество товаров, которые он должен доставать каждое утро перед выходом и убирать каждый вечер в конце рабочего дня.
Возможно, этот открытый чемодан ему необходим и он пользуется им как тумбочкой, письменным или обеденным столом; ты представляешь соседа несколько церемонным, комичным персонажем, который разворачивает на своем чемодане вышитую скатерть, сохранившуюся от былой роскоши, ставит жалкий подсвечник для дешевых свечей, сервиз — возможно, подобный тем, которые он продает, а именно розовый пластмассовый стаканчик, тарелка и набор алюминиевых приборов, которые складываются один в другой следующим образом: ложка имеет углубление для вилки, вилка — для ножа, и все удерживается защелкой в форме пуговицы для ложного воротника, приделанной к ложке и проходящей насквозь вилку и нож, к которому привязано кожаное кольцо, — и в твоем причудливом воображении этот чемодан, существование которого еще никак не подтверждено, может служить прилавком галантерейщика днем и корзиной для пикника вечером. Но нет никакой уверенности даже в том, что твой сосед ужинает дома, ты никогда не слышал шипения, ты никогда не чувствовал запаха жарящихся потрохов, почек, которые были бы его излюбленной пищей. Более или менее точно ты знаешь только то, что за водой он выходит в коридор (пусть его комната больше твоей, но в ней нет водопроводного крана), а чайник ставит на плитку, чей принцип работы тебе неизвестен, но наверняка довольно прост, если судить по времени, которое требуется для того, чтобы чайник засвистел, то есть вода закипела.
Напрасно ты слушаешь, прислушиваешься, прикладываешь ухо к стенке, все равно ты почти ничего не знаешь. Кажется, что с обострением твоего восприятия уверенность твоих интерпретаций уменьшается. Несомненно, он постоянно выдвигает и задвигает ящики, хотя и это еще не окончательно доказано, поскольку ему ничто не мешает, например, тереть одной доской о другую с неизвестной тебе целью или просто чтобы ввести тебя в заблуждение; с другой стороны, он может на самом деле выдвигать или задвигать один или несколько ящиков просто так, то есть ничто туда не укладывая, ничто оттуда не выкладывая, лишь для того, чтобы поскрипеть, потому что ему нравится скрип выдвигаемых или задвигаемых ящиков. Несомненно, он каждый день выходит поздним утром, но ты не всегда бываешь дома, чтобы в этом убедиться; иногда ты уходишь с наступлением вечера, еще до того, как он возвращается; быть может, он даже способен сделать вид, что уходит, спуститься на несколько ступенек и снова подняться, но так тихо, что, несмотря на все свои усилия, ты уже не можешь удостовериться в его присутствии. Несомненно, он набирает воду в коридоре; несомненно, его чайник свистит, когда закипает вода, но как знать, а вдруг свистит он сам?
Однако временами его жизнь начинает принадлежать тебе, его звуки становятся твоими, поскольку ты их слушаешь, ждешь, поскольку они поддерживают в тебе жизнь, как капля воды, колокола Сен-Рок, шум улицы, гул города. Тебе не так важно, что ты заблуждаешься, интерпретируя или выдумывая. Достаточно того, что ты сделал его галантерейщиком, и он им действительно стал; со своим раскладывающимся чемоданом, своими расческами, зажигалками, солнечными очками. Он проживает эфемерную жизнь, которую ты позволяешь ему проживать; будучи приговоренным в оставшееся время наполнять водой свой чайник, кашлять, волочить ноги, задвигать и выдвигать свои ящики, он исчезает, не успев выйти из поля твоего восприятия, и умирает, едва тебя одолевает сон.
Но быть может, сам того не зная, ты в некоем молчаливом симбиозе также принадлежишь ему? Быть может, когда ты подстерегаешь его кашель, свист, скрип ящиков, он занят тем же самым; быть может, точно так же стук, с которым ты ставишь чашку на этажерку, шелест газет, которые ты берешь и откладываешь, шуршание карт, которые ты раскладываешь на своей узкой кушетке, плеск используемой тобой воды, твое дыхание являются для него — вместе с капанием воды, колоколами, шумами улицы, города — плотной тканью утекающего времени и непрекращающейся жизни. Быть может, он безнадежно пытается с тобой познакомиться, быть может, он не перестает интерпретировать каждый знак: кто ты, что ты делаешь, ты, шелестящий газетами, ты, в течение нескольких дней не выходящий из дома или выходящий из дома и отсутствующий в течение нескольких дней?
Но ты издаешь так мало звуков! Он может выявить лишь твое присутствие, и если он обращает на это внимание, значит, опасается; значит, ты его тревожишь: он подобен старому, вечно переживающему за безопасность своей норы барсуку, что слышит неподалеку какой-то звук и никак не может установить его источник; звук, который никогда не усиливается, никогда не ослабевает и, самое главное, никогда не прекращается. Он старается защититься, он пытается неумело ставить перед тобой ловушки, пытается убедить тебя в том, что он силен, что не боится, что не дрожит от страха: но он такой старый! У него остаются силы только на то, чтобы беспрерывно пересчитывать и постоянно перепрятывать свое богатство.