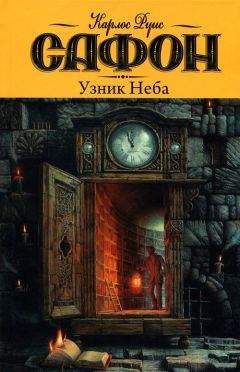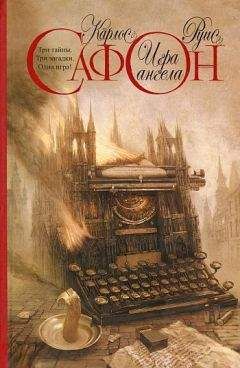Каждые пятнадцать дней собирался верховный военный трибунал, и на рассвете осужденных казнили. Случалось, что из-за скверного состояния ружей или подпорченных зарядов расстрельному взводу не удавалось поразить жизненно важные органы приговоренных, и мучительные стоны раненых, упавших в ров, раздавались часами. Иногда звучал взрыв, и тогда крики мгновенно смолкали. По версии заключенных, кто-то из офицеров добивал обреченных гранатой, но наверняка этого никто не знал.
Среди арестантов имели широкое хождение самые разные слухи, в том числе поговаривали, будто господин комендант завел обыкновение по утрам в пятницу принимать у себя в кабинете жен, дочерей, невест и даже тетушек и бабушек заключенных. Избавившись от обручального кольца, которое он отправлял в верхний ящик письменного стола, Вальс выслушивал ходатайства, вникал в просьбы, предлагал женщинам платок, чтобы вытереть слезы, и принимал подарки и одолжения иного рода в обмен на обещание сытно кормить и хорошо обращаться с заключенным. Порой он даже подавал надежду на пересмотр спорных приговоров, что, впрочем, ни разу не привело к желаемому результату.
В отдельных случаях Маурисио Вальс просто угощал посетительниц печеньем и бокалом «Москателя». Если дамы, невзирая на тяготы военного времени и недоедание, сохранили миловидность и вызывали желание их пощупать, комендант читал им отрывки из своих сочинений, нацепив нимб мученика, сетовал на брак с инвалидом и рассыпался словесами, сколь ненавистна ему тюремная служба. Вальс разливался соловьем, жалуясь на унизительность своего положения. Ибо он считал глубоко несправедливым, что столь образованного, утонченного и воспитанного человека, как он, сослали на низменную должность, тогда как судьбой ему было предназначено принадлежать к политической и интеллектуальной элите страны.
Тюремные старожилы советовали не поминать всуе господина коменданта и по возможности вообще выбросить мысли о нем из головы. В основном заключенные предпочитали говорить о семьях, с которыми их разлучили, о любимых женщинах, рассказывать самые яркие эпизоды из своей прежней жизни. Некоторые ухитрились сохранить фотографии невест и жен и берегли их пуще зеницы ока, защищая из последних сил от посягательств. Опытные люди предупреждали Фермина, что труднее всего пережить первые три месяца. Потом, когда таяла последняя надежда, время начинало бежать быстрее, и бессмысленное существование постепенно усыпляло душу.
По воскресеньям, после мессы и выступления господина коменданта, заключенные небольшой компанией собирались в солнечном уголке двора, чтобы выкурить сигарету — одну на всех — и послушать истории, которыми их развлекал Давид Мартин, если находился в здравом уме. Фермин, знавший почти все его новеллы наизусть, поскольку в свое время прочитал серию «Город проклятых» от корки до корки, присоединялся к обществу и давал волю воображению. Правда, довольно часто Мартин оказывался не в состоянии связать двух слов, тогда его оставляли в покое, и он принимался беседовать сам с собой в сторонке. Фермин внимательно наблюдал за ним, а временами ходил по пятам; было в этом несчастном человеке нечто такое, что заставляло его сердце сжиматься от жалости. Фермин, пустив в ход свой богатый арсенал мошеннических трюков, ухитрялся добывать для писателя сигареты и даже кусочки сахара, который тот обожал.
— Вы хороший человек, Фермин. Постарайтесь этого не показывать.
Мартин не расставался со старой фотографией, которую часто и подолгу рассматривал. На ней был запечатлен господин в белом костюме, державший за руку девочку лет десяти. Оба они, мужчина и девочка, смотрели на закат, стоя на краю маленькой деревянной пристани, выдававшейся в море, словно тропинка, проложенная над прозрачными водами. Однажды Фермин спросил писателя о снимке. Мартин промолчал и лишь улыбнулся, пряча карточку в карман.
— Кто эта девочка на фотографии, сеньор Мартин?
— Я точно не знаю, Фермин. Память меня порой подводит. С вами такого не случается?
— Конечно. Со всеми бывает.
Шептались, будто Мартин не в себе. И вскоре после того, как между ними завязалось подобие дружбы, Фермин начал подозревать, что бедняга повредился в рассудке гораздо сильнее, чем предполагали остальные заключенные. В редкие минуты просветления Мартин демонстрировал исключительную остроту и трезвость ума, но в остальное время он словно не понимал, где находится, и заводил речь о событиях и людях, явно существовавших только в его воображении или воспоминаниях.
Просыпаясь под утро, Фермин часто слышал, как Мартин разговаривал в своей камере. Тайком подкравшись как-то к решетке и напрягая слух, Фермин сумел различить отголоски словесной баталии: Мартин ожесточенно спорил с кем-то, кого он называл «сеньор Корелли». И судя по смыслу звучавших реплик, упомянутый сеньор Корелли являлся фигурой зловещей, чтобы не сказать роковой.
Однажды ночью Фермин зажег припасенный огарок последней свечи и поднял его повыше, чтобы осветить камеру напротив. В результате он убедился, что Мартин находился в ней один и оба голоса — писателя и этого самого Корелли — исходили из одних уст. Мартин описывал круги по камере, а когда их взгляды на миг скрестились, Фермину стало ясно, что его сосед попросту его не видит. Писатель вел себя так, будто стен тюрьмы не существовало вовсе, и его диалог с неведомым сеньором происходил где-то далеко от горы Монтжуик.
— Не обращайте внимания, — пробормотал номер пятнадцатый в темноте. — Каждую ночь повторяется одно и тоже. Заливается колокольчиком. Несчастный человек.
Наутро Фермин попытался расспросить писателя о загадочном Корелли и об их ночных беседах. Мартин удивленно посмотрел на него, смущенно улыбнулся и ничего не ответил. В другой раз, когда Фермин не мог заснуть из-за холода, он снова, прижавшись к решетке, слышал, как Мартин вел диалоге одним из своих невидимых друзей. В ту ночь Фермин осмелился вмешаться.
— Мартин? Это Фермин, ваш сосед напротив. Вы хорошо себя чувствуете?
Мартин приблизился к прутьям, и Фермин увидел, что лицо писателя залито слезами.
— Сеньор Мартин? Кто такая Исабелла? Вы только что о ней говорили.
Мартин пытливо посмотрел на него.
— Исабелла — единственное, что осталось хорошего на этом свете, — высказался писатель с несвойственным ему ожесточением. — Если бы не она, не жаль было бы поджечь весь дерьмовый мир и позволить ему выгореть дотла.
— Простите, Мартин. Я не хотел вас тревожить.
Мартин отступил, скрывшись в тени. На следующее утро его нашли почти без сознания: скорчившись, он трясся над лужей крови. Ханурик заснул, сидя на стуле, и Мартин, воспользовавшись моментом, изодрал запястья камнем, вскрыв себе вены. Он был мертвенно бледен, когда его укладывали на носилки, и Фермин не надеялся увидеть беднягу вновь.
— Не волнуйтесь за приятеля, Фермин, — утешил номер пятнадцатый. — Будь на его месте кто другой, он отправился бы прямиком в мешок, но Мартину господин комендант не даст умереть. Бог знает почему.
Камера Давида Мартина пустовала пять недель. Обратно Ханурик принес его на руках, как ребенка. Его и не различить было в белой пижаме, а руки были забинтованы до локтей. Мартин никого не узнавал и провел первую ночь, разговаривая сам с собой и заливаясь смехом. Ханурик поставил стул вплотную к решетке камеры и ночь напролет дежурил около больного, скармливая ему кусочки сахара, которые стянул в комнате офицеров и припрятал в карманах.
— Сеньор Мартин, пожалуйста, не говорите таких ужасных вещей, иначе Бог вас накажет, — шептал надзиратель, просовывая сквозь прутья лакомство.
В миру номер двенадцатый был доктором Романом Санаухой, заведующим терапевтическим отделением клинической больницы. Человек цельный, он оказался невосприимчив к вирусу идеологического бреда и массовой истерии. Совесть и нежелание доносить на друзей довели его до тюремной камеры. Очутившись в крепости, арестанты автоматически теряли право иметь профессию. За исключением тех случаев, когда их профессиональные навыки могли быть полезны господину коменданту. Квалификация доктора Санаухи вскоре получила должное признание и высокую оценку.
— К сожалению, я не располагаю необходимыми медицинскими средствами, — объяснил господин комендант. — Реальность такова, что у государства иные приоритеты и его мало волнует, что кто-то из вас гниет от гангрены в камере. После долгих баталий мне удалось добиться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и нам прислали плохо укомплектованную аптеку и коновала, которого, по-моему, не приняли бы даже уборщиком на ветеринарный факультет. Но это все, чем мы располагаем. Я осведомлен, что прежде, чем соблазниться ложью о нейтралитете, вы являлись довольно известным врачом. По причинам, не имеющим к делу отношения, я лично заинтересован в том, чтобы заключенный Давид Мартин не покинул нас преждевременно. Если вы согласитесь сотрудничать и поможете поддержать его в сносном состоянии, я обещаю вам, что, учитывая обстоятельства, сделаю ваше пребывание тут терпимым. Также я лично позабочусь, чтобы ваше дело пересмотрели и изменили приговор, сократив срок заключения.