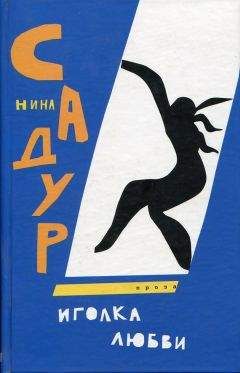Свернув с Мерзляковского во двор, Марья Петровна натянула вязаную шапку на глаза и подняла воротник пальто, скрывая свое лицо. Но возле помойки она встретила свою ученицу — Лену Зацепину. Та смотрела на Марью Петровну в упор. Девочка видела Марью Петровну только в школе и поразилась, поняв, что химичка существует и в других местах, и вот прямо здесь, у их помойки. Химичка могла существовать везде. Это было ново.
Марья Петровна же сразу предполагала, что напорется на кого-нибудь, хоть и пряталась в шапку, и обрадовалась, что обошлось только тупой Зацепиной. Играя и рискуя, Марья Петровна проорала весело:
— Ну что, Зацепина, уроки сделала?
— Алгерба осталась, — отозвалась школьница тоненько.
— Вот я сейчас к родителям твоим схожу, спрошу! — пригрозила Марья Петровна, входя в раж.
— Ну прям там, — хмыкнула наглая.
Лена прекрасно знала, что химичка никогда не придет к ним домой. Но она хмыкнула, представив, как будет биться учительница о ее падших родителей.
— Ты мне не улыбайся! Ты мне не улыбайся! — заголосила учительница, приходя в привычную ярость.
— Я и не улыбаюсь, — столь же привычно отпиралась Лена и уже теряла интерес к учительнице, уже маялась, ожидая, чтоб ее отпустили: химичка и в других местах мира была точно такой же, как в школе.
— Притащилась, сволочь, — тоскливо думала девочка, — Орет теперь. — И, как в классе, уныло ища поддержки, оглядывала двор, ловила взгляды прохожих. И машинально посмотрела на окна Лазуткиных.
Марья, перехватив взгляд, поперхнулась. Резко смолкнув, набычась, рассматривала Лену Зацепину. Вдруг увидела то, что подсознательно давно уже заметила: бледная кожа девочки тонко ровно розовела, будто подсвеченная изнутри. И хотя глаза ее, дикие и зимние, были столь пустыми, как и раньше, пробегал в них новый пристальный блеск, пробегал. «И эта туда же» — неопределенно подумала Марья Петровна, и, заметив, что Лена мучительно сдерживает дыхание, страдая от близости помойки, обрадовалась и стала нарочно задерживать девочку.
— Лена, — проникновенно заговорила Марья Петровна, — ты уже взрослая девочка, ты все понимаешь…
— Мерзости говорить станет, — догадалась Лена (учительница часто говорила в школе девочкам мерзости).
— Если тебя обижают какие-нибудь мальчики… или мужчины… ты мне сразу скажи.
— Хорошо, — кивнула Лена покорно.
— Я все-таки тебе не чужая, пойми ты, девочка!
— Я скажу, Марья Петровна, — искренне отозвалась Лена, вскидывая свои глаза на учительницу. — Ей, наверное, интересно про все такое, — догадалась она, — про гадости…
Лена вспомнила прошлый Новый Год, разъятого Деда Мороза и ввинчивающего в него Петю Лазуткина.
«Сука — холодно подумала девочка, — чуть не убила Петьку Лазуткина. Чуть не умер, чуть не застрял навеки. Сука проклятая».
Лена «гадости» ненавидела и даже простое прикосновение к себе воспринимала с отвращением. Никто никогда не касался ее. Кроме родителей. И то, когда она маленькой была. И больше никто. Никогда. Невольно отступив от учительницы, Лена прикрыла нос рукавом.
И Марья Петровна ответно подумала:
«Сука. Кочевряжится. Девочка еще. Целка. Сука».
Она тряхнула сумку, в сумке ответно шевельнулись. Марья напряглась. Шальная соблазнительная мысль шибанула в башку: сунуть сумку Ленке, послать к Лазуткиным, пусть отдаст им… что будет?!
— Можно, я пойду? — уныло попросила Зацепина.
— Иди! — очнулась Марья и, размахнувшись, зашвырнула сумку в контейнер.
Вернувшись домой, Марья Петровна хотела было пожарить окорочков себе, завалиться в кровать и позырить «серик» «Нежный яд», но внезапно сильно, до зеленой мути закружилась голова, и она мощно шарахнулась пустым животом об угол стола. От удара Марья Петровна зарыдала, и рыдая, пустая, голодная, ни в чем неутоленная, повалилась на кровать.
Привычная вонь постели подействовала успокаивающе, и полностью сотрясенная женщина уснула.
Проснулась в больное, нехорошее время дня. Не понимая, зачем, она подбрела к окну, и навалив весь живот на подоконник, стала смотреть на соседние низкие крыши (она жила на птичьем продувном семнадцатом этаже одинокой башни). Был закат. Он багрянил металлические крыши внизу, а пустое просторное небо окраины в зеленых и серых полосах снизу злобно пылало, и это пылание неожиданно встревожило Марью Петровну и как будто укусило ее где-то внутри, под грудиной. Марья Петровна позабыла включить свет спросонья, и комнату вместе с нею быстро затопила мгла. На улице было светлее, хотя и там было не светло, а сумрачно, были видны низкие дома и их пустые дворы, даже стайка бродячих собак, скользящая в обезлюдевших пустотах, а вверху и вдалеке сквозное красное небо кончалось очень-очень далеко, за какой-то низкой и мутной деревней. Одним глазом охватить все это было невозможно, тем более, что мертвый глаз неусыпно сторожил неуловимые, убегающие движения где-то сзади. И, хоть ни разу еще не удавалось обернуться достаточно быстро, чтобы что-то застать, боковой глаз не смыкал своих век даже ночью.
Устав от простора, который она видела впервые, Марья Петровна повела плечами, и чары простора ушли — Марья Петровна увидела своим живым глазом маленький грузовик, который, казалось, висел над дальней кривой дорогой. Но он двигался, он был далеко, и его движение казалось не настоящим, а придуманным самой Марьей Петровной, и это движение сразу и сильно понравилось, стало дорогим. Оно было не таким, как движение полос в небе, перекатов света и тени в зимнем воздухе и опускания дня к ночи.
Но грузовик ушел и ничего от Марьи Петровны вокруг не осталось.
Стало одинаково темно и снаружи и внутри. Марья Петровна пошарила рукой сбоку — на столе и включила настольную лампу. Она увидела свое лицо в стекле. Вздрогнув, она отошла от окна. Она включила верхний свет. Она увидела свою комнату. «Завтра лабораторная, — вспомнила Марья Петровна. — Опыты будем ставить. Лазуткин огребет по первое число. Уж я вам обещаю!»
— Уж я вам обещаю! — сказала она. Прочистила горло и повторила громко: — Уж я вам обещаю!
Постучала рукой но столу и рявкнула?
— Уж я вам это уж точно обещаю!!!
Потом послушала тишину, исподлобья озирая комнату, а затем резко обернулась вслед за своим белым глазом — но заднего движения опять не засекла. От резкого поворота обширно и глубоко заболел живот. Марья Петровна снова все вспомнила, и у нее задрожал подбородок. Тряпка, которой она подоткнулась, быстро намокала, от этого она злилась, потому что тряпок было мало и жалко. Внезапно нелепо и ненужно захотелось любить Петра. Она вытянула перед собой руки и свела их на такое расстояние, каким скромный рыбак показывает длину пойманной рыбки. «Узкий, как дерево», — мрачно подумала Марья Петровна, но вспомнила ключицы мальчика и длинные ноги с широкими коленками и маленькую попку…
— Это магнитные бури! — сказала Марья Петровна весомо. — Самочувствия никакого!
Потом передернула шкурой и послушала тишину. Была ночь. Тишина была глухой и мутной, пропитанной непонятными дальними звуками. Она зажала левое ухо, то, которое сообщалось с белым глазом. «Если я пол-вижу, то пусть я и пол-слышу?» — подумала она мстительно.
И так же, как тайное заднее движение с мертвой стороны, из зажатого уха донесся невнятный лепет, а затем тихое пение. Слов не разобрать было. Да и не совсем пение, голоса такого снаружи нигде не было в мире. «В башке у меня поет, — испугалась Марья Петровна. — Головной глист завелся в мозгах. От грязи это все…»
Учительница, поддерживая тряпки между ног, подошла к кровати, и, сопровождаемая незванным внутренним пением, рухнула на нее. Ворочаясь, чтобы спать, она твердо решила завтра же вымыть и вычистить всю свою квартирку. Глист пел фортиссимо.
Очнувшись, Петя медленно поднял руку вверх. Кисть красиво свесилась, влажно отсвечивая непросохшей еще глиной. Но выше, на третьем этаже, стоял и ходил Зиновий, и рука, надломившись, упала. Было душно, надышанно. Петя поднялся кое-как, прошаркал к окошечку. Белый блестящий подоконник был такой чистый, что наружный бег снега отражался в нем мелкой рябью, придавая подоконнику зыбкое, успокаивающее движение. Петя, глядя сквозь стекла в зиму, поднял обе руки вверх, но теперь для кружения. Заглянул себе за спину — нет ли движения там и пошел, и пошел легкими ногами. Люстра, брызжа медовым светом, кружилась над головой. Виски заломило от такого венца. (Жаркая люстра стала венцом огненным).
«Что ж, венценосность приходит, приходит… — подумалось где-то сбоку. — Ля-ля-ля.»
Петя резко стал, так что люстра звякнула летящими подвесками, мелко задрожала. Петя бросился на пол, пополз под кровать. Вытянул старый чемодан и достал сверток. Сверток он спрятал в штаны. Получилось заметно, но нечего делать. Потом побежал в столовую и взял полбатона. Хотел уже идти дальше, но в столовую вошел Зиновий.