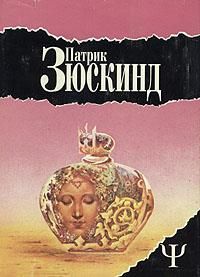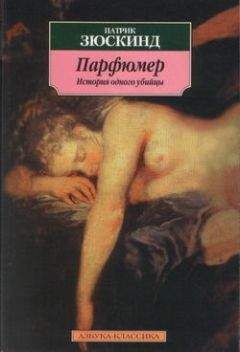Теперь он был прямо горд собой. И чувствовал бесконечное облегчение. Впервые за много лет судорога услужливости, напрягавшая его затылок и все униженнее сгибавшая его спину, оставила в покое его позвоночник, и он выпрямился без напряжения, освобожденный, и свободный, и обрадованный. Его дыхание легко проходило через нос. Он отчетливо воспринимал запах «Амура и Психеи», заполнивший комнату, но теперь он был неуязвим для него. Бальдини изменил свою жизнь и чувствовал себя чудесно. Теперь он поднимается к жене и поставит ее в известность о своих решениях, а потом отправится на другую сторону реки в собор Парижской Богоматери и поставит свечку, чтобы поблагодарить Бога за милостивое знамение и за невероятную силу характера, которой Он одарил его, Джузеппе Бальдини. С почти юношеским шиком он небрежно надвинул на лысый череп парик, надел голубой сюртук, схватил подсвечник, стоявший на письменном столе, и покинул кабинет. Он как раз успел зажечь свечу от сальной свечки на лестничной клетке, чтобы осветить себе путь наверх в жилое помещение, когда внизу, на первом этаже, раздался звонок. Это не был красивый персидский колокольчик у входа в лавку, а дребезжание у черного входа для посыльных, омерзительное звяканье, которое всегда действовало ему на нервы. Он все собирался убрать эту дрянь и заказать звонок с более приятным звуком, но каждый раз ему жалко было тратиться, а теперь, подумал он вдруг и захихикал при этой мысли, теперь ему было все равно; он продаст назойливое дребезжание вместе с домом. Пусть по этому поводу злится его преемник.
Звонок задребезжал снова. Бальдини прислушался. Шенье, конечно, уже ушел из лавки. А служанка, верно, не собиралась спускаться вниз. Поэтому он решил открыть сам.
Он отбросил задвижку, распахнул тяжелую дверь — и не увидел ничего. Темнота полностью поглотила свет свечи. Потом он постепенно различил маленькую фигуру, ребенка или мальчика-подростка с какой-то ношей, перекинутой через руку.
— Что тебе надо?
— Меня прислал мэтр Грималь, я принес козловые кожи, — сказала фигура, и подошла ближе, протянула Бальдини согнутую в локте руку, на которой висело несколько сложенных в стопку кож. В свете свечи Бальдини увидел лицо мальчика с боязливо-настороженными глазами. Его поза была склоненной. Казалось, он прячется за своей вытянутой рукой как человек, ожидающий побоев. Это был Гренуй.
14
Козловые кожи! Бальдини вспомнил. Несколько дней назад он сделал заказ у Грималя, тончайшая, мягчайшая лайка для бювара графа Верамона, по пятнадцать франков кусок. Но теперь она ему, собственно говоря, ни к чему, можно было бы сэкономить деньги. С другой стороны, если он просто отошлет посыльного?.. Кто знает — это может произвести неблагоприятное впечатление, начнут болтать, распускать слухи: Бальдини, мол, стал ненадежен, у Бальдини больше нет заказов… а это нехорошо, нет, нет, такие вещи страшно сбивают продажную цену магазина. Лучше уж принять эту бесполезную кожу. Никто не должен раньше времени узнать, что Джузеппе Бальдини изменил свою жизнь.
— Войди!
Он впустил мальчика, и они направились на другую половину дома, впереди — Бальдини с зажженной свечой, за ним — Гренуй со своими кожами. Гренуй впервые входил в парфюмерную лавку — в такое место, где запахи не были чем-то побочным, но совершенно откровенно занимали центральное место. Разумеется, он знал все парфюмерные и аптекарские лавки города, он целыми ночами простаивал перед их витринами, прижимая нос к щелям в дверях. Он знал все запахи, которыми здесь торговали, и часто про себя сочинял из них великолепнейшие духи. Так что ничего нового его здесь не ожидало. Но точно так же, как музыкально одаренный ребенок горит желанием увидеть оркестр вблизи или как-нибудь подняться в церкви на хоры, к скрытой клавиатуре органа, так Гренуй горел желанием увидеть парфюмерную лавку изнутри, и, едва услышав, что к Бальдини надо доставить кожи, он всячески постарался взять на себя это поручение.
И вот он стоял в лавке у Бальдини, в том месте Парижа, где на самом тесном пространстве было собрано самое большое количество профессиональных запахов. В неверном свете свечи он увидел немного, да и то мельком: тень конторки с весами, цапель над фонтаном, кресло для заказчиков, темные полки на стенах, поблескивание латунных инструментов и белые этикетки на стаканах и тиглях; и запахов он уловил не больше, чем слышал с улицы. Но он сразу же ощутил царившую в этих стенах серьезность, мы чуть было не сказали, священную серьезность, если бы слово «священный» имело хоть какое-то значение для Гренуя; он ощутил холодную серьезность, трезвость ремесла, сухую деловитость, исходившие от каждого предмета мебели, от утвари, от пузырьков, и бутылок, и горшков. И пока он шел вслед за Бальдини, в тени Бальдини, ибо Бальдини не давал себе труда посветить ему, его захватила мысль, что его место — здесь, и больше нигде, что он останется здесь, и больше нигде, что он останется здесь и отсюда перевернет мир вверх дном.
Разумеется, эта мысль была прямо-таки до нелепого нескромной. Не было ничего, действительно ровно ничего, что бы позволяло случайно попавшему сюда подмастерью кожевника, сомнительного происхождение, без связей, без протекции, без всякого положения в сословии, прочно закрепиться в самом почетном парфюмерном торговом заведении Парижа; тем более что, как мы знаем, ликвидация фирмы была делом решенным. Но ведь и речь шла даже не о надежде, выражавшейся в нескромных мыслях Гренуя, а об уверенности. Он знал, что покинет эту лавку только еще один раз, чтобы забрать у Грималя свою одежду, не больше. Клещ почуял кровь. Годами он таился, замкнувшись в себе, и ждал. Теперь он отцепился и упадет — пусть без всякой надежды. Но тем больше была его уверенность.
Они пересекли лавку. Бальдини открыл заднее помещение, расположенное со стороны реки и служившее одновременно кладовой, и мастерской, и лабораторией, где варилось мыло и взбивались помады и в пузатых бутылях смешивались нюхательные жидкости.
— Сюда! — сказал он и указал на большой стол, стоявший под окном. — Клади их сюда!
Гренуй вышел из тени Бальдини, положил шкурки на стол, потом быстро снова отпрыгнул назад и встал между Бальдини и дверью. Бальдини некоторое время стоял неподвижно, отведя свечу немного в сторону, чтобы ни одна капля воска не упала на стол, и скользил костяшкой пальца по гладкой лицевой стороне. Потом перевернул верхнюю шкурку и погладил бархатную, грубую и в то же время мягкую изнанку. Она была очень хороша, эта кожа. Прямо создана для лайки. При сушке она почти не сядет, а если ее правильно разгладить, она снова станет податливой, он почувствовал это сразу, как только зажал ее между большим и указательным пальцами; она смогла бы удерживать аромат пять или десять лет. Это была очень, очень хорошая кожа — может быть, он сделает из нее перчатки, три пары себе, три пары жене, для поездки в Мессину.
Он отвел руку и с умиление взглянул на свой рабочий стол — все лежало наготове: стеклянная кювета для ароматизации, стеклянная пластина для сушки, ступки для подмешивания тинктуры, пестик и шпатель, кисть, и гладилка, и ножницы. Казалось, вещи только заснули, потому что было темно, а утром они снова оживут. Может, забрать этот стол с собой в Мессину? И кое-что из инструментов, самое основное?.. За этим столом очень хорошо работалось. Он был изготовлен из дубовых досок — и крышка, и рама с косым крепежом, на этом столе ничего не шаталось и не опрокидывалось, он не боялся никакой кислоты, никакого масла, никакого пореза ножом… Перевезти его в Мессину? Это обойдется в целое состояние! Даже если отправить морем! И поэтому он будет продан, этот стол, завтра он будет продан, и все, что на нем, под ним и рядом с ним точно так же будет продано! Ибо хотя сердце у него, Бальдини, мягкое, но характер — твердый, а посему он исполнит свое решение, как бы тяжело ему ни было, он отрешится ото всего со слезами на глазах, но он все же сделает это, ибо знает, что это правильно, ему было дано знамение.
Он повернулся, чтобы уйти. Тут он заметил в дверях этого маленького скрюченного человечка, о котором чуть не забыл.
— Хорошо, — сказал Бальдини. — Передай своему мастеру, что кожа хорошая. В ближайшие для я зайду расплатиться.
— Я передам, — сказал Гренуй и не двинулся с места, загородив дорогу Бальдини, собиравшемуся покинуть свою мастерскую. Бальдини несколько опешил, но, ни о чем не подозревая, усмотрел в поведении мальчика не дерзость, а робость.
— В чем дело? — спросил он. — Ты должен еще что-то мне передать? Ну? Выкладывай!
Гренуй стоял потупившись и глядел на Бальдини тем взглядом, который якобы выдает боязливость, но на самом деле скрывает настороженность и напряженность.
— Я хочу у вас работать, мэтр Бальдини. У вас, в вашем магазине я хочу работать.