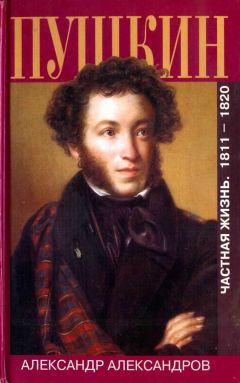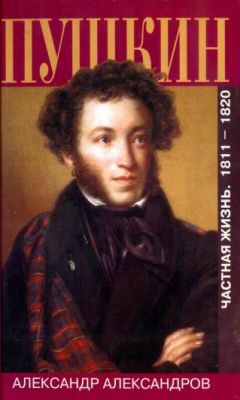Уже вечером, когда они направились в дортуары, чтобы лечь спать, заговорили о великом князе Константине Павловиче, о его приставаниях к сестре Анне Павловне, и Ваня Пущин рассказал Александру жутковатую историю про великого князя, так похожего на своего сумасшедшего отца внешне, но совершенно лишенного его внутреннего благородства и рыцарства. Ване можно было верить, ибо многое он знал от деда Петра Ивановича, адмирала и сенатора, бывшего видной фигурой при дворе Павла Петровича. Как и многие государственные деятели, отодвинутые на второй план при следующем государе, он ревниво следил за жизнью двора и знал происходящее там во всех тонкостях. Впрочем, эта история была исключительной, и шлейф от нее тянулся уже лет десять.
Великий князь был шефом Конного полка и зачастую кутил вместе с конногвардейцами в Мраморном дворце. Затянутые во время службы на все шнурки, крючки, пуговички, они в свободное время позволяли себе расслабляться, и порой до состояния скотского. В самом начале царствования его брата и произошла эта история, потрясшая весь Петербург, но о которой до сих пор говорили шепотом, как и об убийстве их отца.
Великий князь увлекся женой придворного ювелира итальянца Араужо и через посредников сделал ей оскорбительное предложение, на которое она отвечала явным презрением, и это ей дорого стоило. Впрочем, некоторые говорили, что другим она охотно давала, а только с великим князем нашла коса на камень. Летом 1803 года однажды под вечер за ней приехала карета будто бы от больной родственницы. Ничего не подозревая, она сошла и села в карету, где ее схватили, зажали рот и отвезли в Мраморный дворец. Несколько часов бедную женщину насиловали конногвардейцы. Сам великий князь не принимал в этом участия, а только сполна наслаждался местью, наблюдая. Потом она была отвезена к своему крыльцу и брошена на улице. Когда на звон колокольчика вышли ее принять, кареты уже не было. Несчастная Араужо лежала на мостовой почти без чувств и только и смогла сказать мужу, что обесчещена во дворце. Она тут же потеряла сознание и, не приходя в себя, умерла. На крик мужа сбежалось множество народу: свидетельство было огромное!
На другой день весь Петербург узнал об этом. Произошел общий ропот. От имени государя, огорченного в высшей степени, прибито было ко всем будкам столицы объявление, которым приглашались все, кто знает хотя бы малейшее обстоятельство из этого гнусного происшествия, прямо к императору, с уверением в обеспечении от всякого преследования сильных. То же было объявлено при ведомостях обеих столиц, разослано во все концы империи. Составлена была комиссия под председательством старого графа Татищева, который всячески отказывался, но его уговорили, и, наконец, дело повернули так, что, по подозрению, генерала Боура, любимца Константина, выключили из службы, а итальянцу Араужо дали денег и велели немедленно выехать за границу. Через полтора года Боур в Аустерлицкой кампании был опять принят. Казалось, все было предано забвению, но общество не так забывчиво, как может показаться, и великий князь, не лишенный прозорливости, часто читал себе осуждение на лицах людей, с которыми встречался. Это не могло его не задевать, несмотря на всю его непомерную гордость.
— Хорошенькая у нас перспектива, — вздохнул Пушкин. — Ведь цесаревич когда-нибудь да и станет царем.
— Если ему в этом не помешают, — сказал Ваня Пущин.
— Ты думаешь, что императрица еще может родить наследника?
— Нет, я думаю, что самодержавие — не единственный способ правления и, уж во всяком случае, далеко не лучший.
в которой лицейских лишают личных книг, заботясь об их нравственности. — Должность сочинителя в России. — Генерал-прокуроры — первые поэты на Руси. — Жизнь Саши Пушкина с дядей и его спутницей Анной Ворожейкиной. — Воспоминание о первых попытках любовной игры. — Тень Ивана Баркова. — Ноябрь 1811 года.
В лицейской зале собралось большинство воспитанников.
Перед лицеистами стояли Мартын Степанович Пилецкий и всеми любимый, но совершенно не уважаемый Сергей Гаврилович Чириков.
— Господа лицейские! Прошу вас не беспокоиться, — сказал инспектор Пилецкий. — Книги вам вернут, когда вы станете старше, и их тлетворное влияние не будет для вас так губительно, как губительно оно для душ молодых, неокрепших.
Лишь забота о вашей нравственности побудила нас пойти на такой решительный шаг, как изъятие из ваших комнат непозволительного для вашего возраста чтения…
— Что вы нашли непозволительное у нас? — спросил лицеист Ломоносов.
— У вас ничего, а вот у господина Пушкина обнаружили книгу Вольтера с его пометами на полях. Пометы свидетельствуют о том, как пагубно влияние сего французского вольнодумца на отрока…
Саша Пушкин усмехнулся: он знал, что пометы на книге папенькины, но не стал возражать.
— С Вольтером переписывалась Екатерина Великая! — сообщил Ломоносов. — Почему мы не можем читать Вольтера?
— Мы уважаем ваши познания в отечественной истории, господин Ломоносов, но позвольте вам напомнить латинскую пословицу: Quod licet Jovi, non licet bovi.
— Что сказал этот святоша? — спросил Малиновский у стоявшего рядом князя Горчакова.
— Что позволено Юпитеру — не позволено быку, — пояснил Горчаков товарищу.
— Это кто же бык? — обиделся Малиновский.
— Вероятно, это ты, Казак… — поддел его князь Горчаков. — Вон как ты набычился.
— А почему вы взяли книги без нашего позволения? — спросил барон Дельвиг Пилецкого, но вопрос остался без ответа, хотя Пилецкий все же удостоил вопрошавшего укоризненным взглядом.
— Нам скучно во время праздников и табельных дней, когда нет занятий, — обратился к Пилецкому князь Горчаков. — У нас отобрали даже романы. У меня, например, отобрали английскую книгу, которую мне прислал дядюшка, а я хочу совершенствоваться в английском языке. Как же мне быть, Мартын Степанович?
— Должен сообщить вам, что государь император милостив к своим чадам, — приторно улыбаясь, сказал инспектор. — Он отдал вам в подарок библиотеку, которая была у него в молодости. Скоро вы ее получите. У меня есть сведения, что у вас уже выходит «Сарскосельская газета». Не правда ли, господа? Господин Корсаков, вы, кажется, редактор этого повременного издания?
— Честно говоря, я попробовал, но так не хватает материала, — замялся Корсаков. — За каждым ходишь, ходишь…
— Вот что я вам, господа лицейские, предлагаю, — воодушевился Пилецкий, обращаясь ко всем. — Учредите собрание молодых людей, которые чувствуют в себе способности к исполнению должности сочинителя. И чтоб в течение двух недель каждый член общества сочинил что-нибудь…
— А если не сочинит? — поинтересовался Данзас, от волнения разворошив и снова пригладив свои рыжие волосы.
— Выпороть, — хохотнул Малиновский, но Пилецкий его не услышал, вернее, не захотел услышать, и ответил Данзасу:
— Если не сочинит, значит, должно выключить его из общества.
— Француз у нас сочинит, — уверенно сказал Пущин. — Помните, как в классе у Кошанского он сочинил про розу?
— Я тоже сочиню, — решительно сказал Данзас; волосы не давали ему покоя.
— Куда тебе, Медведь! — поддел его Комовский и посмотрел на Пилецкого. — Ты всегда последний в классе!
— Не всегда! И Француз бывает последний, и Тося… И ничего… Сочиняют.
Данзас посмотрел на Пушкина, ища поддержки, но тот молчал.
— Это превосходная идея! — вдруг разом вспыхнул и загорелся Кюхельбекер. Он буквально затрясся от нетерпения. — Я тоже дам в журнал свои сочинения. Я переведу с немецкого. Что-нибудь из Goethe… Например, «Mahomets Gesang»…
— И я! — воскликнул Олосенька Илличевский.
— Вот и хорошо! Идите, господа, и сочиняйте. А шалости и баламутство оставьте! Это до добра не доводит.
Весьма довольный собой надзиратель Мартын Степанович удалился из залы. Чириков, хранивший при надзирателе молчание, теперь почувствовал себя свободней, и улыбка возникла на его добродушной физиономии.
— А приходите ко мне, господа! Будем собираться у меня и беседовать, будем читать написанное, — искренне предложил он лицеистам.
— Ура-а! — закричали наиболее горячие головы.
В коридоре, где располагались дортуары воспитанников, в арках горели масляные лампы.
— Вот уж никогда не думал, что сочинитель — это должность, — сказал Пушкин Ване Пущину, когда они шли по коридору к себе. — И что по должности можно сочинять.
— У нас в государстве любой род занятий возможен токмо по должности, — с издевкой отвечал Пущин.
— Сочинительство, по-моему, дело частного человека…
— У нас сочинители отнюдь не частные люди. Возьми Ивана Ивановича Дмитриева — министр юстиции и генерал-прокурор, Гаврила Романович тоже занимал эту должность. А это все первые наши поэты…