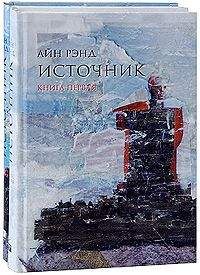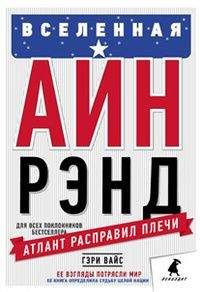Она лежала в его постели и прижимала ладони к гладкой холодной простыне, чтобы не дать рукам протянуться к нему. Но её скованность и безразличие не пробудили в нём гнев. Он понял. Он рассмеялся. Она услышала его слова — жёсткие, прямые, насмешливые: «Так не пойдёт, Доминик». И поняла, что не в силах удержать преграду. Ответ на его слова она ощутила в собственном теле — это была готовность, приятие, влечение. Она подумала, что причина не в желании, даже не в половом акте; мужчина воплощает жизненную силу, а женщина откликается только на эту изначальную мощь, слияние их тел будет простым свидетельством этой мощи, и подчинялась она не этому человеку, а той жизненной силе, которая забилась в нём.
— Ну? — спросил Эллсворт Тухи. — Теперь тебе ясно?
Он стоял, небрежно прислонясь к спинке стула, на котором сидел Скаррет, и уставясь на корзинку, полную корреспонденции.
— Нас завалили письмами, Эллсворт. Ты бы видел, как его называют. Почему он не дал материал о своём бракосочетании? Чего он стыдится? Что скрывает? Почему не венчался в церкви, как порядочный человек? Как мог жениться на разведённой? Вот что всех интересует. Тысячи писем. А он не хочет видеть эти письма. И это Гейл Винанд, человек, которого называют барометром общественного мнения.
— Именно так, — сказал Тухи. — Такой он человек.
— Вот, например. — Скаррет взял одно письмо и прочёл вслух: — «Я порядочная женщина, мать пятерых детей, и теперь убедилась, что не следует воспитывать детей на примере вашей газеты. Четырнадцать лет я выписывала её, но теперь, когда вы показали себя недостойным человеком, которому наплевать на священный институт брака, который спокойно вступает в связь с падшей женщиной, женой другого, которая и обручается-то в чёрном платье, как, впрочем, и пристало в её положении, я больше не собираюсь читать вашу газету, вы — дурной пример для детей, и я в вас сильно разочаровалась. Искренне ваша миссис Томас Паркер». Я прочитал ему это письмо. Он посмеялся.
— О-хо-хо, — только и сказал Тухи.
— Что в него вселилось, Тухи?
— Ничего, Альва. Наружу вышла наконец его подлинная натура.
— Между прочим, знаешь, многие газеты раскопали старый снимок Доминик — голую статую из того чёртова храма, вмонтировали его в репортаж о бракосочетании якобы как свидетельство привязанности миссис Винанд к искусству. Вот подлецы! Подонки, они хотят посчитаться с ним. Интересно, кто подсказал им идею?
— Откуда мне знать?
— Конечно, это не более чем буря в стакане воды. Через пару недель всё забудется. Не думаю, что будет большой вред.
— Да, пожалуй, одно это событие мало что значит само по себе.
— То есть? Ты как будто что-то предрекаешь.
— Письма предрекают, Альва. И не столько письма, сколько тот факт, что он не хочет их читать.
— Ну, не стоит придавать этому чрезмерное значение. Гейл знает, где и когда остановиться. Не надо делать из мухи… — Он взглянул на Тухи, и голос его изменился: — Впрочем, о чёрт, Эллсворт, а ведь ты прав. Что будем делать?
— Ничего, мой друг, мы ничего не будем делать ещё долгое время.
Тухи сел на край стола и стал тыкать концом узкого ботинка в корзинку с письмами, подбрасывая листки и шелестя ими. В последнее время он завёл привычку постоянно заглядывать в кабинет Скаррета в любое время дня, и Скаррет всё больше полагался на него.
— Послушай, Эллсворт, — внезапно спросил Скаррет, — а так ли ты лоялен к «Знамени»?
— Альва, говори по-человечески. Что за высокопарный стиль?
— Нет, в самом деле… Думаю, ты понимаешь.
— Разве можно быть нелояльным к хлебу с маслом?
— Да, конечно… И всё же, Эллсворт, понимаешь, ты мне очень нравишься, только я никак не разберу, когда ты говоришь то, что на самом деле думаешь, а когда подстраиваешься под меня.
— Не надо лезть в дебри психологии, заблудишься. Что у тебя на уме?
— Почему ты продолжаешь писать для «Новых рубежей»?
— Ради заработка.
— Ладно, ладно, для тебя это не деньги.
— Ну, это престижный журнал. Почему бы мне не сотрудничать с ними? У вас нет на меня исключительных прав.
— Конечно, и мне вообще-то наплевать, где ты прирабатываешь. Только вот «Новые рубежи» в последнее время как-то странно себя ведут.
— В каком отношении?
— В отношении Гейла Винанда.
— Чепуха, Альва!
— Нет, совсем не чепуха. Возможно, ты не обратил внимания, наверное, не вчитываешься должным образом, но у меня нюх на такие дела, уж я-то знаю. Могу различить, когда оригинальничает какой-нибудь юный умник, а когда гнёт свою линию журнал.
— Альва, ты напрасно разнервничался, ты преувеличиваешь. «Новые рубежи» — журнал либеральный, они всегда покусывали Гейла Винанда. Его все поддевают. Он никогда не пользовался любовью в нашей среде, ты же знаешь. Но его это мало трогало, не так ли?
— Тут другое. Мне не нравится, что это делается систематически, с определённой целью, вроде множество мелких ручейков, ан смотришь — и бурный поток. Всё одно к одному, и вскоре…
— Уж не развивается ли у тебя мания преследования, Альва?
— Мне это не нравится. Всё было в норме, когда прохаживались насчёт его яхт, женщин, кое-каких муниципальных делишек… Ведь одни сплетни, так ничего и не подтвердилось, — поспешно добавил он. — Мне не нравится, когда переходят на модный теперь жаргон новой интеллигенции: Гейл Винанд — эксплуататор, Гейл Винанд — акула капитализма, Гейл Винанд — язва эпохи. Тот же трёп, конечно, Эллсворт, но трёп взрывоопасный.
— Всего лишь современный стиль выражения старых идей, и ничего больше. Кроме того, я не могу нести ответственности за политику журнала, даже если время от времени помещаю там свой материал.
— Нет, конечно, но… До меня доходят и другие слухи.
— Какие?
— Что ты финансируешь эту кампанию.
— Я? Из чьего кармана?
— Ну, не из своего личного. Но говорят, это ты убедил молодого Ронни Пиккеринга, известного выпивоху, сделать им финансовое вливание в сто тысяч зелёных, как раз когда журнал, как многие ему подобные, дышал на ладан.
— А, чёрт! Это делалось для того, чтобы вытащить Ронни из дорогих кабаков. Малыш опускался на глазах, а так у него появился стимул, смысл жизни. Он дал деньги на благородное дело, вместо того чтобы тратить на хористочек, которые так или иначе выманили бы их у него.
— Так-то оно так, но тебе следовало бы обговорить спонсорство условием, дать понять, что они не должны нападать на Гейла Винанда.
— Но «Новые рубежи» — это ведь не «Знамя», Альва. Это журнал с принципами. Его редакции нельзя ставить условия, нельзя сказать: «А не то…»
— В наших-то играх, Эллсворт? Кого ты хочешь обмануть?
— Ну, чтобы успокоить тебя, скажу кое-что, что тебе неизвестно. Это не для огласки, но раз уж ты… Всё сделано через посредников. Тебе известно, что я недавно убедил Митчела Лейтона купить большой пакет акций «Знамени»?
— Нет!
— Именно.
— Господи! Это великолепно, Эллсворт! Митчел Лейтон? Такие денежки нам не помешают, и мы… Погоди-ка. Митчел Лейтон?
— Да, а что тут такого?
— Не тот ли это внучок, которому никак не переварить дедушкино наследство?
— Да, дед оставил ему громадные деньги.
— Но он ужасный сумасброд. То увлёкся йогой, то сделался вегетарианцем, затем унитаристом, потом нудистом, а недавно отправился в Москву строить дворец для пролетариата.
— Ну и что?
— О Господи! Красный среди наших акционеров!
— Митчел не красный. Как можно быть красным, имея четверть миллиарда долларов! Он всего лишь бледно-розовый. Скорее даже жёлтый. Но душой — чудесный парень.
— Но зачем ему «Знамя»?
— Альва, ты просто осёл. Неужели не понятно? Я заставлю его поместить часть состояния в добротную, солидную, консервативную газету. Это излечит его от розовых фантазий и направит на верную стезю. А кроме того, какой от него вред? Контрольный пакет ведь у нашего дорогого Гейла, правда?
— А Гейл об этом знает?
— Нет. Последние пять лет наш дорогой Гейл не так осмотрителен, как раньше. И лучше ему не говорить. Ты видишь, как ведёт себя Гейл. Пора оказать на него давление. А для этого нужны деньги. Так что будь мил с Митчелом Лейтоном. Он может пригодиться.
— Тут я согласен.
— Вот и хорошо. Как видишь, я не изменник. Я поддержал на плаву либеральный журнальчик, но я же привлёк гораздо более значительную сумму в поддержку такого оплота консерватизма, как нью-йоркское «Знамя».
— Выходит так, и это очень порядочно, учитывая, что ты сам своего рода радикал.
— Ну, будешь ещё толковать о моей нелояльности?
— Полагаю, нет оснований. Рассчитываю на твою верность нашему «Знамени».
— То-то же. Я люблю «Знамя». Для него я готов на всё. Жизнь готов отдать за «Знамя».
Отшельник на пустынном острове помнит о большой земле, но в роскошной городской квартире на крыше небоскрёба, с отключённым телефоном, Винанд и Доминик забыли, что под ними ещё пятьдесят семь этажей, стальные колодцы лифтов, вмонтированных в гранит. Им казалось, что их жильё не остров, а планета, летящая в космосе. Город стал лишь приятным видением, он превратился в абстракцию, связь с которой невозможна, — так можно любоваться небом, которое мало значит в жизни человека, ходящего по земле.