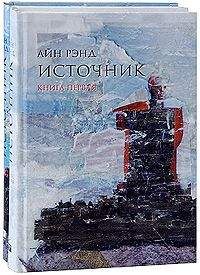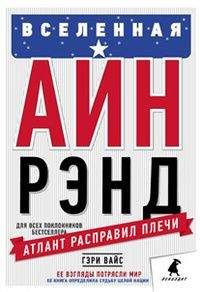Он улыбнулся, в его глазах внезапно вспыхнул блеск какой-то странной отваги.
— Можно смотреть на дело так, — сказал он, — а можно иначе. Мне больше нравится думать об этом так: я взял отбросы человеческой души — замутнённое сознание этой женщины и людей, которым нравится читать о ней, и сотворил из этого ожерелье на твоих плечах. Мне больше по душе думать о себе как об алхимике, способном сотворить бриллиант из грязи.
В его взгляде она не увидела ни оправдания, ни сожаления, ни досады. Это был странный взгляд, она и раньше замечала его — это было поклонение. И это позволило ей осознать, что есть такая ступень поклонения, когда субъект поклонения сам внушает глубокое уважение.
Вечером следующего дня она сидела перед зеркалом, когда он вошёл в её будуар. Он наклонился, прижался губами к её шее… и увидел в углу зеркала квадратик бумаги. Это была расшифровка телеграммы, которая положила конец её карьере в «Знамени»: «Уволить суку. Г.В.».
Он выпрямился во весь рост позади неё:
— Как это попало к тебе?
— Мне это дал Эллсворт Тухи. Я подумала — стоит сохранить. Конечно, не ожидала, что придётся так кстати.
Он с серьёзным видом склонил голову, признавая авторство, и ничего не сказал.
Она думала, что на следующее утро телеграммы не окажется на месте. Но он к ней не притронулся. Она тоже её не касалась. Телеграмма так и осталась прикреплённой к раме зеркала. Когда Винанд держал Доминик в объятиях, она часто видела, как его взгляд устремляется к этому клочку бумаги. Что он при этом думал, она не знала.
Весной он на неделю уехал из Нью-Йорка на съезд издателей. Они впервые расстались. Доминик удивила его, приехав встречать в аэропорт. Она была весела и нежна, её поведение обещало то, на что он никогда не рассчитывал, чему не мог поверить и всё-таки верил.
Когда он вошёл в гостиную и устало раскинулся на диване, она поняла, что ему хотелось отдохнуть во вновь обретённом надёжном покое своего жилища. Она заглянула в его глаза; он не хотел ничего, кроме отдыха, он рассчитывал на понимание. Она стояла перед ним, готовая к выходу:
— Пора одеваться, Гейл. Мы идём в театр.
Винанд сел. Он улыбнулся, на лбу появились косые бороздки. Он вызывал у неё холодное чувство восхищения: он полностью владел собой, если не считать этих бороздок. Он сказал:
— Прекрасно. Фрак или смокинг?
— Фрак. У нас билеты на «Не твоё собачье дело». Достала с великим трудом.
Это было слишком. На минуту в комнате повисла напряжённая, грозовая атмосфера. Он первый нарушил её искренним смехом, сказав с бессильным отвращением:
— Побойся Бога, Доминик! Всё что угодно, только не это!
— Гейл, это гвоздь сезона. Ваш критик Жюль Фауглер, — тут Гейл перестал смеяться, он всё понял, — объявил её величайшей пьесой нашего времени. Эллсворт Тухи сказал, что это чистый голос грядущего нового мира. Альва Скаррет заявил, что пьеса написана не чернилами, а молоком человеческой доброты. Салли Брент, до того как ты её уволил, сказала, что она смеялась на спектакле, чувствуя комок в горле. Нет, эта пьеса — законное дитя «Знамени», и я подумала, что ты обязательно захочешь посмотреть её.
— Да, конечно, — сказал Винанд.
Он встал и отправился одеваться.
«Не твоё собачье дело» шла уже несколько месяцев. Эллсворт Тухи с сожалением заметил в своей колонке, что название пьесы пришлось немного изменить, «пойдя на уступки ханжеской буржуазной морали, которая до сих пор диктует свою волю театру. Это вопиющий пример давления на художника. Так что не стоит верить болтовне о творческой свободе и вообще о свободе в нашем обществе. Первоначально названием этой чудесной пьесы было подлинное народное выражение, прямое и смелое, как свойственно языку простого человека».
Винанд и Доминик сидели в середине четвёртого ряда, не обращаясь друг к другу, следя за действием. Сюжет был малоинтересным, банальным, но подтекст не мог не пугать. Тяжеловесные пустопорожние реплики, которыми текст пропитался, как сыростью, создавали какую-то особую атмосферу; она давала себя знать в ухмылках актёров, в вульгарных жестах, в хитроватом прищуре глаз и насмешливых интонациях. Малозначащие фразы подавались как откровение и нагло навязывались как глубокие истины. На сцене витал дух не невинного предубеждения, а намеренного вызова. Автор, похоже, хорошо знал свою цель и похвалялся властью навязывать зрителям свои представления о возвышенном и тем самым уничтожать в них способность к истинно возвышенному. Спектакль оправдывал мнение критиков: он веселил, как непристойный анекдот, разыгранный не на сцене, а в зрительном зале: словно с пьедестала столкнули божество, а вместо него водрузился не сатана с мечом, а уличный дебошир с бутылкой.
Притихший зал был явно озадачен и насторожен. Когда раздавался смех, все тотчас с облегчением подключались, с радостью открывая для себя, что им весело. Жюль Фауглер не пытался что-то внушить зрителю, он просто дал понять — задолго до постановки и через множество намёков, — что всякий, кто не сможет оценить пьесу, — бездарный тупица. «Бесполезно просить пояснений, — сказал он. — Либо вы в состоянии понять эту пьесу, либо вам это не дано».
В антракте Винанд слышал, как одна полная дама сказала:
— Чудесно, хотя я не всё понимаю, но чувствую, что это о чём-то очень важном.
Доминик спросила:
— Может быть, уйдём, Гейл?
Он ответил:
— Нет, досидим до конца.
В машине по дороге домой он молчал. Когда они вошли в гостиную, он остановился и приготовился выслушать и принять любую критику. На миг у неё появилось желание пощадить его. Она чувствовала себя опустошённой и очень уставшей. Ей не хотелось причинять ему боль, ей хотелось просить у него помощи.
Потом её мысли снова вернулись к тому, о чём она думала в театре. Эта пьеса была творением «Знамени», «Знамя» её породило, вскормило, поддержало и привело к триумфу. То же «Знамя» начало и завершило разрушение храма Стоддарда… Нью-йоркское «Знамя», второе ноября, рубрика «Вполголоса», статья «Святотатство», автор Эллсворт М. Тухи; «Церкви нашего детства», автор Альва Скаррет. «Вы счастливы, мистер Супермен?..» И разрушение храма Стоддарда представилось ей недавним событием; дело было, конечно, не в сравнении двух несоизмеримых вещей, храма и пьесы, а в том, что и то и другое было не случайно, роли играли не актёры, не Айк, Фауглер, Тухи и она сама… и Рорк. Дело было во вневременном противоречии, в вечной борьбе, битве двух идей: одной, создавшей храм, и другой, произведшей на свет пьесу; две силы открылись ей в наготе, своей сути, силы, боровшиеся друг против друга с сотворения мира; они были известны каждой религии, всегда были Бог и дьявол, просто люди часто заблуждались относительно того, каков дьявол; дьявол не был велик, он был не один, дьяволов было много, люди были грязны и ничтожны. «Знамя» погубило храм Стоддарда, чтобы дать жизнь этой пьесе, иного от него нельзя было ожидать, третьего не дано, нельзя избежать выбора, нейтралитет невозможен — либо одно, либо другое, так было всегда. У этой войны много символов, но нет названия, это необъявленная война… «О Рорк! — закричало всё её существо. — О Рорк, Рорк, Рорк…»
— Доминик, что случилось?
Она услышала голос Винанда, тихий и встревоженный. Никогда раньше он не позволял себе проявить беспокойство. Она поняла его вопрос, он возник как отражение того, что он увидел в её лице.
Она выпрямилась, уверенная в себе, внутри неё всё застыло.
— Я думаю о тебе, Гейл, — сказала она. Он ждал. — Что, Гейл? Меняем величие на великую страсть? — Она рассмеялась, подражая актёрам на сцене. — Послушай, Гейл, у тебя есть двухцентовая марка с портретом Джорджа Вашингтона?.. Сколько тебе лет, Гейл? Много ли ты трудился? Ты прожил половину жизни, но сегодня получил вознаграждение. Достиг своей вершины. Конечно, никому не удаётся встать вровень со своей высшей страстью. Но если будешь стараться изо всех сил, то когда-нибудь сможешь встать вровень с этой пьесой! — Он молчал, слушая и принимая. — Полагаю, тебе надо выставить рукопись этой пьесы напоказ внизу, в твоей художественной галерее. И дать новое имя своей яхте — «Не твоё собачье дело». Думаю, ты должен…
— Замолчи.
— …включить меня в труппу, чтобы я каждый вечер исполняла роль Мэри, той Мэри, которая приютила бездомную крысу и…
— Доминик, замолчи.
— Тогда говори сам. Я хочу услышать, что ты скажешь.
— Я никогда ни перед кем не оправдывался.
— Тогда хвастайся, тоже подойдёт.
— Если хочешь знать, меня тошнит от этой пьесы. Ты знаешь это. Это ещё омерзительнее, чем история женщины-убийцы из Бронкса.
— Да, пьеса почище той истории.
— Но можно представить себе худшее, например, великая пьеса, выставленная на посмешище перед сегодняшней публикой. Принять мученический венец, оказаться жертвой людей вроде тех, что потешались сегодня. — Он видел, что его слова что-то пробудили в ней, но не знал — гнев или удивление. Он продолжал: — Да, мне тошно от пьесы, как и от многого другого, что делается в «Знамени». Этот вечер особенно показателен, он обнажил многое из того, что было скрыто, — большую агрессивность и озлобленность. Но если это по душе глупцам, то именно это нужно «Знамени». Газета для того и создана, чтобы потрафлять дуракам. Что ещё я должен признать? В чём повиниться?