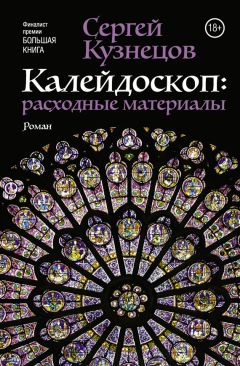Но, конечно, никуда нельзя вернуться, ничего нельзя вернуть. Ни Летний сад, ни Петербург, ни страну, где родилась и прожила всю жизнь.
Ностальгия – удел слабых духом.
Ира открывает дверь и слышит возбужденный голос Виктора:
– А не понравится – так можно в Америку податься! Но, Сереж, здесь на самом деле отлично, главное – климат хороший и все свои.
«Все свои» нигде не бывает, думает Ира. Даже те, кто когда-то были своими, со временем становятся чужими, почти незнакомыми… превращаются в пародию на себя, в грустный шарж.
Виктор сидит спиной к двери, перед ним на столе – Ира скорее догадывается, чем видит, – полупустая бутылка, колбаса из «свинюка», рюмка и включенный на громкую связь телефон.
– Я же русский, из донских казаков, – доносится из динамика голос Сережи, – а мы, русские, не то что вы, евреи. Как уедем – так с концами. Через поколение дети уже ни языка не знают, ни культуры, ничего. Ассимилировались. Нам, русским, без государства никуда. Вот отделится Украина – и вырастет моя Лизка хохлушкой.
– А мы, евреи, две тысячи лет продержались, – говорит Виктор. – Богоизбранный народ, ептыть.
– Нам бы хорошо у вас научиться, – Ирина слышит, как Сережа смеется, – чтобы тоже без государства жить.
– За это и выпьем! – Виктор наливает и чокается с телефонной трубкой.
Что-то много стал пить, думает Ира. В Питере ведь почти не квасил, а здесь – то одному приятелю позвонит, то другому… на одних телефонных счетах разоришься.
Прислонившись к стене, она смотрит на редеющие волосы мужа, убранные в конский хвост.
Мужчины, думает Ира, не умеют стареть красиво.
– …Другая страна! – доносится до нее Сережин голос. – После августа я впервые могу гордиться, что я русский!
– Да брось, – говорит Виктор, – вообще не понимаю, чего это все кинулись защищать Ельцина. Такая же партийная сволочь, как все остальные! А страна… совок был – совок и остался.
– Ты подожди пару лет, – отвечает Сережа. – Приезжай и сам увидишь, как все изменится!
Вряд ли в ближайшие годы мы приедем, думает Ира. Лет через восемь-десять, когда Лёня отслужит в армии, поступит в университет, заведет себе девушку… мы будем старые, неопрятные, болтливые… нет, я не хочу снова встретить Сережу.
Все, хватит, я уехала навсегда! А ностальгия – это удел слабых духом.
Дорогой Егор,
Прости, что давно не писал тебе. У меня все нормально, ничего особо интересного не происходит.
Ты спрашиваешь, почему я ничего не пишу про Гилу, и я, наверное, должен рассказать, что у нас случилось – тем более это случилось давно, еще до моего прошлого письма.
Однажды вечером я повел Гилу на площадь Когана, к моим русским друзьям: хотел похвастаться Алику и Боре, что у меня тоже есть девушка, да еще и местная, настоящая сабра.
– Привет, ребята, – сказал я по-русски, а потом добавил на иврите: – Знакомьтесь, это Гила.
Я хотел сказать «она – моя девушка», но подумал, что все и так догадаются, раз мы стоим обнявшись.
– Привет, – сказала Гила.
Алик ухмыльнулся, сказал «привет!» и добавил:
– Таких у нас еще не было!
– Каких – таких? – спросила Гила.
– Таких красивых, конечно, – сказал Боря, и все засмеялись.
Ребята немножко выпили, потом Алик взял гитару и вместо Летова или БГ запел «Чунгу-чангу» – я даже не сразу понял, почему.
Пока Алик пел, Боря шепотом спросил меня по-русски:
– Где ты ее подцепил?
– Мы в одном классе учимся, – сказал я, – а что?
– Экзотичная герла, – сказал Боря, – прикольно.
Я вообще-то ничего не рассказывал на Коганах про свои отношения с одноклассниками: пусть все думают, что я отлично освоился здесь, в Израиле.
Тем вечером все прошло нормально, все много ржали и, как всегда, подкалывали друг друга. Наверно, Гиле было скучновато – мы ведь говорили только по-русски, – но она не подавала виду. Мы с ней даже несколько раз поцеловались, прямо на глазах у всех, и это было очень круто.
Я только что сообразил, что почему-то не писал тебе в предыдущих письмах, что Гила – эфиопка, то есть, конечно, еврейка, но еврейка из Эфиопии и выглядит как негритянка: черная, с курчавыми волосами и большими губами. Это здесь важно, что она из Эфиопии, а не из Марокко: почти все остальные ребята и девчонки из нашего класса – марокканцы.
Я думаю, именно это Гила и пыталась мне объяснить в первый день, но я тогда слишком плохо знал иврит, чтобы понять.
На самом деле, мне было клево, что моя девушка – негритянка. Я даже рассказал ей, что главный русский поэт Пушкин, как и она, родом из Эфиопии.
Через несколько дней мы снова пошли на Когана, и, наверное, пришли слишком рано: почти никого не было, только Алик и еще несколько ребят пили водку «Казачок» – мы называем ее «Синие Мужики», потому что там на наклейке изображены синие мужики в казацкой одежде.
В этот раз Алик был уже сильно пьян и сразу сказал:
– О, ты опять со своей мартышкой пришел!
Я, конечно, ничего не ответил, сделал вид, что не расслышал, и тогда Алик уже на иврите сказал Гиле:
– Привет, обезьянка!
У Гилы что-то дернулось в лице, она посмотрела на меня, жалобно и тревожно, а я опять сделал вид, будто ничего не происходит. Мы же с тобой знаем – когда тебя дразнят, лучше этого не замечать, чтобы не раззадоривать.
Но Алика было не остановить. Он опять запел «Чунга-чангу», и Боря даже одернул его, мол, что ты пристал к девчонке? – и тогда Алик шваркнул гитару и ответил на иврите, чтобы Гила тоже поняла:
– Не, я пристал? Это ж просто шутки, я же видел в мультиках – у мартышек тоже есть чувство юмора. Или нет?
Он смотрел прямо в лицо Гиле, улыбаясь во весь рот, и мне захотелось его ударить, чтобы он не цеплял мою девушку. Но я не стал: и даже не потому, что Алик старше меня и гораздо сильнее. Гила, конечно, была моя девушка, но все-таки Алик русский, как и я. С кем бы я пел Гребенщикова и Цоя, если бы мы поссорились? С кем бы вспоминал Питер?
Поэтому я так и стоял молча, в ушах у меня шумело, а Алик добавил на иврите пару слов, которых я не понял, – и тогда Гила развернулась и побежала прочь. Я хотел броситься за ней, но Алик сказал:
– Ты чего? Да зачем она тебе? Она же не врубается. Нас, олимов, такие как она вообще за белых людей не держат. Знаешь, сколько я с ними в школе дерусь? Ты ж пойми, мы больше не в совке, здесь – запад, цивилизованная страна, без всякой херни про дружбу народов. Запомни: мы – русские, а изеры – это изеры. На фиг нам нужны здесь всякие черножопые? Тем более если они шуток не понимают.
То, что говорил Алик, было гадко. Мне надо было догнать Гилу, извиниться перед ней. Но Алик был мой друг. Когда я приехал, только он с ребятами меня поддержал.
Как я мог его бросить?
Я глотнул водки, а потом мы сидели и до ночи пели песни, а я думал, как это было глупо – привести сюда Гилу, потому что, похоже, теперь у меня опять нет девушки.
Я думаю, надо было написать тебе об этом еще в прошлый раз, но мне очень неприятно вспоминать эту историю. Наверно, я не буду отправлять и это письмо, а завтра утром напишу другое, например, о том, как странно, что осень уже кончается, а тут ни желтых листьев, ни проливных дождей.
Этой ночью Ире приснилась осень. Хмурая, тусклая осень Петербурга, промозглая сырость, холодный ветер с Невы. Она выходит из магазина, проталкиваясь сквозь очередь таких же усталых, злых людей. В руках – сумки с едой: два кило гниловатого картофеля, молоко, пакет кефира и десяток яиц.
Сумки кажутся очень тяжелыми, куда тяжелей, чем были, когда она жила в Питере. Ира удивляется даже во сне, но потом понимает: это она постарела. Наверно, ей сейчас за пятьдесят, может, даже за шестьдесят, силы уже не те, что в молодости.
Она едва тащится, ручка авоськи врезается в судорожно согнутые пальцы. Улица пустеет, Ира остается одна. Что же это такое, почему до дома так далеко? Мы же всегда жили в центре! – думает она, а потом понимает: наверное, это потому, что я не уехала в Израиль, развелась с Виктором и живу в другом районе.
Ей все-таки кажется, что она почти пришла, – но тут сирена воздушной тревоги ударяет по барабанным перепонкам. Ира лезет в авоську: вместо картошки там противогаз. Она надевает его и спешит дальше по улице: за углом должно быть бомбоубежище, старое, еще со времен блокады. Но, свернув, она налетает на мужчину, бегущего навстречу.
– Женщина, – с улыбкой говорит он, – куда вы так спешите?
Не поднимая головы, Ира узнает голос.
– В бомбоубежище, – отвечает она.
– Зачем нам в бомбоубежище? – удивляется Сережа. – У нас же есть зонт.
Из кармана плаща он вынимает складной японский зонтик, нажимает кнопку – и разноцветный купол распускается над их головами.
– А это поможет? – спрашивает Ира.