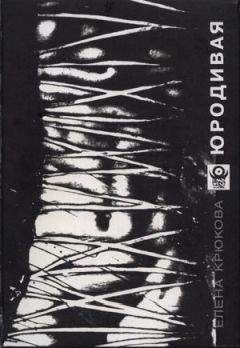Я его дочь, шофер.
Что врешь?!.. у тебя глаза, как лодки, плывут… ты умалишенная… ты бредишь, не знаешь, что лепечешь… волки все в лесах живут…
А ты, парень, замолкни, нишкни, я намедни в Армагеддоне вот такущего волка видал… лапы — с оглоблю… хвост — с дворницкую метлу… и волк этот шел купаться… в баню он направлялся… полотенце нес в зубах, а на загривке его мыло моталось… и смех, и грех… Ксения, уши заткни…
Ругайтесь на здоровье; в ругани подчас свобода, ее вам в жизни так не хватало; изругаешься — и веселье нахлынет, будто ненавистному подножку подставил, будто преступнику приговор зачитал…
А преступника-то не казнить — миловать надо!.. любить надо…
Ксения!.. Ксения-а-а-а-а!.. Слышишь!.. Вижу… видение вижу…
Я Птица. Я Птица, и ты связал мои крылья, уцепился за них, возлег на них; и тебя я тащу. Кричи мне виденья свои! Все пойму! Ведь я их тоже вижу! Вместе с тобой! Твоими глазами! Своими…
Вижу: ты, Ксения, пляшешь с медведем, с большим черным медведем, на ярком синем снегу, на площади, на улице Арбате, и бубен у тебя в смуглой руке, и ударяешь ты в оглушительно звенящий бубен, и топает медведь, переминаясь с тяжелой ноги на ногу, и мотается медное кольцо у него в мокром слюнявом носу; кольцо — чтоб он не укусил людей, не закусал их до смерти, сделали ему жестокие люди, и ты, Ксения, пляшешь вместе с ним, кружась, крутясь, в бубен ударяя, и звенят на бубне все мелкие колокольчики и крупные бубенцы…
…и звенят на моем бубне все мелкие колокольчики и крупные бубенцы, и медведь ревет, подняв ко мне морду свою, и по черной дегтярной шерсти крупные слезы текут; толпа гогочет! Смеется — рты до ушей!.. «Ты бы медведю еще крест надела — на черной шерсти здорово золото мерцает!..» Тяжела пляска. Топчу снег босыми ногами. Отбиваю наледь с пятки. Медведь умоляет меня взглядом: хватит, мучительша. Нет! — кричу я и неистовей ударяю в бубен. Не хватит! Еще не конец! Еще слезы по черной морде льются! Еще продолжается безумная жизнь! Еще людям нужны зрелища! Нужны хлеб и вино! Нужны молитва и гулянка! Нужно им купить-продать, даже перед битвой, где все мы ляжем костьми! Ибо люди всегда остаются людьми! Они надевают ворохи цветных тряпок! Они пляшут! Плачут! Пекут пироги! Пьют горькую! Предают Господа своего! Они слабы! Ибо это люди! Ибо так, и только так, они различают добро и зло! Иначе они были бы не люди, а боги! Но Бог назначил им быть людьми! И более никем! И мне назначил плясать на Арбате с черным медведем на блестком снегу, до посинения, до исступления, до смеха, идущего лавой из нутра, сотрясающего глотку! Я медвежонка нашла, когда зоосад разбомбили; я еще павлина спасла, украла, одной богачке на память подарила… а медведика молоком выкормила, мне на детских кухнях молочных, сжалясь, в скляночку бесплатно наливали. Сыночек мой!.. звереныш… Живенький, не мертвенький, и так, увалень, бойко пляшет… на потеху публике, на забаву толпе… Гляди, народ!.. Хохочи!.. Испечем тебе снеговые калачи… А кольцо ему люди вставили в нос, когда он из утробы матери, медведицы, появился: людское мясо не прокусывай, людскую плоть не грызи!.. Танцуй, по черному льду пяткой толстой скользи… Ну, эх, раз, два, медвежья голова, прыгни!.. Выше!.. До кремлевской крыши!.. Я с тобой прыгну, скоморошка — подайте хоть хлеба крошку… хоть в миске окрошку… хоть горбушку из окошка… хоть дохлую кошку… и винца немножко в плошке, мое-то, в бутыли, уже все выдули — знать, не святые…
А зверей тоже расстреляли, как и людей, и на снегу валялись мертвые павлины; ох, какие же красавцы!.. Перышко к перышку… Веера хвостов — синие, цвета моря в грозу, глазки, золотые ободки… алые брызги… Павлины, братья мои! Никто не отпел вас — я отпою. Мертвых павлинов в сноп собрала, поднялась да и полетела над городом. Все головы задирают: летит Птица, а в когтях у нее парча, шелк, бархат, тафта, виссон, яхонты и адаманты!.. Дай, дай нам хоть один, сбрось с небес!.. Бросила. Когда рассмотрели — ужаснулись, лица в перья и грудки уткнули, заплакали. Пляши, медведь, нечего реветь!.. Чтоб тебя кормили — надо плясать. Хоть жить, быть может, осталось всего ничего, пляши — надо в поте пляски зарабатывать хлеб свой. Чем пляска веселей и зажигательней, тем свежее хлеба дадут! А лапу медленней, ленивей будешь поднимать — по носу гирей схлопочешь. Мы все рабы. На плечах-спинах клейма въелись в кожу. И в бане не смоешь. Разве ножом оттяпать. И прикинуться, что все мы — клейменые!.. — свободные. Дай полакомиться петушком, торговочка!.. И медведю дай. Он сладкое любит. А меда в Армагеддоне нет.
… я Птица, и крылья мои снегом и дождем набрякли, инеем с исподу опушились, не приподнять, как из стали, из чугуна словно, а я поднимаю их, раскидываю и все равно лечу, я летаю над городом, я летаю над полями, над телами солдат и железными трупами танков, над скелетами сгоревших человечьих домов; я летаю везде, и в меня целятся снизу из ружей и пушек, а кое-кто из самострелов и обрезов; и пуля летит мимо, свистит между моими крыльями, и я смеюсь в небе так, что облака разрываются, неужели вам еще непонятно, что Птицу пуля не берет, в огне она не горит и в воде не тонет; как я вижу все из поднебесья! Все лица. Все сердца. Всю правду. Всю ложь. Все, что было, — великая ложь. Но внутри нее, огромной черной лжи, горят куски-самородки золотой правды. У меня уже когти, у меня хвост из перьев, распущенный по ветру, у меня в перьях грудь, у меня раскинутые крылья, у меня только женское лицо, но и оно скоро станет птичьим. Я летаю над правдой, но я не выклевываю ее из лжи. Я осеняю их вместе одним крылом — ложь и правду. Как делил Бог добро и зло? Ах, Адам, зачем ты в Эдеме так есть захотел. Голод не тетка. А я, Птица, почему змея в голову не клюнула. Они, змеи, только удары да клевки понимают.
Я великая Птица, старуха. Космы мои седые. И вокруг ледники, вечная зима. И Война идет вечно. И Царей последних расстреляли. Как я их любила!.. Я не защитила их. Теперь я их вижу везде… Русю с уточкой на руках… Тату с морской свинкой за пазухой… а Леля все языки знала; и Вавилонский, и Шумерский, и Иерусалимский, и Окуневский… и Ершовский, и Налимский… и так бойко балакала, а Аля с Никой всплескивали ручками и радовались, на дочку глядючи… А Стася!.. — деревянная лошадиная голова на палочке, в кулачке хлыстик… скачи, мой конь-огонь, через рытвины и буераки, туда, где лают черные собаки, где не будет ни пуль, ни страха, где наденут на тебя… шапку… Мономаха… Вижу Нику, с золотыми ежами эполет, с кладбищем серебряных крестов на суконном грязном снегу кителя… он трогает награды ладонью, криво усмехается: побрякушки, мужские игрушки, — а жизнь так проста, так свята… и не надо ни куста… ни креста… Что ты, отец, бормочешь!.. как же без креста… гляди — я руку раскину, крылья разброшу, в небо вздымусь, и я лечу, похожа на крест, и я вбита крестом в облака… перекрестись на меня. Какая новая беда нас ждет?.. Горше последней беды быть ничего не может.
Милый Царевич, мальчик Леня!.. помнишь сынка моего Николиньку?.. братика своего?!.. вместе будете яхту к плаванию ладить, облачные паруса ставить; по облачному морю поплывете, звезды огибать будете. А я опальная; я сумасшедшая. Сумасшедшие всегда в опале, в немилости. Дан приказ — меня изловить. Устала я от вас, горе-охотники! Сама сяду в сани. Сама дам себе щиколотки связать. Крылья тоже свяжут: а ну как из саней взлечу?!.. Боятся меня, страшатся… и старую, и немощную, и связанную, и в кандалы закованную — боятся… дрожат…
Чем напугала так их?! Свободой своей?! Тем, что не так ела и пила, как они?! По земле кругами и петлями бродила?! Пророчила?! Излечивала?! Утешала?! Многажды любила?!..
А приговор-то мне не прочитали, дьяк насупился, в носу ковырял, крякал да хрюкал, а словца не сронил, бумагу мял, а после согнулся в три погибели да заплакал горько… боярыня, боярыня!.. Бедняцкая княгинюшка!.. Розвальни на морозе скрипят… клонятся, ты чуть в сугроб не вываливаешься… цепче за бревно держись… Впалые щеки румянятся. В дыры мешка дует пронизывающий ветер. Зима безбрежна, и нет берегов у белой речки. И везут тебя по зальделой бесконечной реке в санях, и по обе стороны санного следа стоит родной народ, глумится, улыбается, хохочет, показывает на тебя пальцами, плачет; старухи в расшитых львами и русалками платах тайком соленую слезку утирают, тебе то пряник, то нищий сухарь от сердца суют: подкормись, бедная, болезная, старая пророчица, пока тебя к месту упокоения влачат; девушки высовывают розовые, жемчужные личики из синего, как небо в солнечный день, атласа, из черного, как январская поминальная ночь, рытого бархата: кого там везут?.. женщину?.. ах, тетку… да, бабу… так, тут побирушечку одну… она всем глаза намозолила, из себя невесть кого корчила, народ смущала, про Бога врала, что Он, мол, живой и ходит среди нас… с мужиками открыто у прорубей, при свете белого дня, кувыркалась… кинь ей жареную куриную ножку, Маринка!.. пусть погрызет перед казнью… А она меня удивила однажды, девоньки… она мне мать воскресила и двух сыновей, убитых… да брось ты брехать!.. Все сказки для легковерных!.. Этого быть на земле не может!.. кого смерть в лапы схватила, тому не топтать синий снег больше… а тот черный медведь, он топчет, бродяжка с ним танцевала, в бубен била… В басурманский бубен, понял?!.. И бубен сжечь… и чертовку в подземелье сбросить… чтобы не летала птицей… чтобы крыльями-то, нахалка, в облаках не размахивала… ишь, у нее крылья есть, а у нас нет… не потерпим!.. Убьем все равно!..