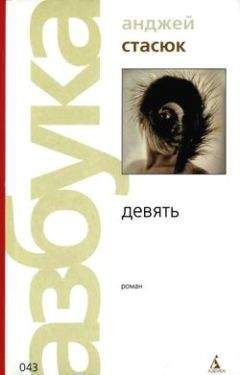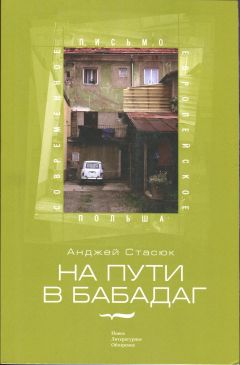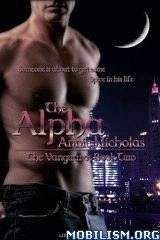Желтоватый буфет с голубыми ручками ящиков, клеенка на столе и радио, которое никогда не делали тише. Еще стол, стулья и печь – и больше ничего. Им дали стулья, они уселись и стали смотреть, как женщина в сером рабочем халате ползает на карачках по разостланному на полу лоскуту ткани и перекладывает пух из мешка в мешок. Пух летал в разогретом воздухе как диковинный снег, который не желает опускаться на землю. Женщине помогала дочь. Когда она наклонялась, под юбкой были видны ее белые ляжки. Воняло какой-то кислятиной. Пол был цементный. Хозяин курил на низкой скамеечке. Им тоже захотелось курить, но на столе не было пепельницы, приходилось так сидеть париться, наблюдая, как собирают этот мешок. В какой-то момент Павел сказал, что пух не ахти, в нем много пера.
– Ну дак повыбирайтя, – буркнул хозяин, а девушка захихикала, взбивая в воздух белые хлопья.
Все происходило словно во сне. Осоловелые, карикатурные движения женщин. Пот тек по спине. Жужжали мухи. В чугунке на плите что-то булькало. Наконец набили два мешка и стали их взвешивать на каких-то фуфловых, разъеденных ржой весах. Мешок падал, стрелка прыгала, пух летал по избе. Гирь не было. Хозяин вынул из шкафа мешочек с сахаром. Павел сказал, что надо вычесть вес мешка. А хозяин ему – раз кило, значит кило. А Павел на это, что он видал такую торговлю знаешь где, и позвал: «Пойдем, Яцек». Но, распахнув дверь, увидел, что огромная желтоватая псина свободно бегает по двору. Пришлось вернуться и попросить мужика привязать кобеля. На что этот Стах ответил, что они еще дело не закончили, а Павел ему, что они уходят. Но мужик был кремень, сказал, что за дамский х… не будет перекладывать это говно из мешка в мешок, время тратить, да еще чтобы ему тут по всей избе летало, и так он торгует себе в убыток. Три раздутых мешка стояли в ряд. Делать было нечего. Они сели.
Обратно ехали уже за полночь. Яцека шатало. Павла нет, потому что он эту водку, за свой же, главное, счет, пил через раз. Таков обычай, говорил Стах, а жена поддакивала. Когда уходили, Стах приглашал за следующей партией. Пес проводил их до калитки. Ему хотелось поиграть. Забралы остановили их в Вавере[36] за мостом. Павел уже доставал деньги, как вдруг Яцек послал их по полной программе. И они передумали брать бабки. Отобрали права.
Лежа в темноте, они пытались сложить эту историю по кусочкам в одно целое, но каким оно должно быть – никто не знал.
– В каком году это было? – спросил Яцек.
– По-моему, в восемьдесят третьем. В начале восемьдесят четвертого мне вернули права.
– Зачем тебе был нужен этот пух?
– Я его продавал там одному.
– А потом мы уже туда не ездили?
– Нет.
– У меня такое впечатление, что я был там еще несколько раз.
– Нет. Потом я один ездил.
Подошел первый трамвай. Пронзительный свист налетел с севера, наполнил собой Маршалковскую, спустился ниже, припал к мостовой, но тут же взлетел вверх и погнал в сторону Мокотова.
– Тридцать шестой, – сказал Яцек.
– Откуда ты знаешь?
– Он всегда приезжает первым и почти всегда пустой.
– Откуда ты знаешь?
– Бывает, надоест лежать, я тогда встаю и сижу тут у окна. Наизусть выучил. Сейчас будет восемнадцатый из Жераня.[37]
– Тоже пустой?
– Несколько человек в первом вагоне.
Потом проснулся дом. Кто-то вошел или вышел. Удар металлической двери прошел дрожью по всему дому. По развязке двигались огромные фуры из России. Мусорные баки, стоявшие у остановок, были уже опорожнены.
– Знаешь, – сказал Павел, – мне всегда казалось, что, если бы все люди не встали, остались лежать в кроватях, день вообще бы не начался. Так и было бы темно. Все время.
– Не можешь просто свалить?
– Куда?
Они ненадолго примолкли, в это время пришел восемнадцатый. Он начал путь с площади Конституции, прочесал вальсом мимо остановки на улице Вильчей, его грохот разросся на улице Вспульной, потом снова спрессовался между домами, стал глуше на узком перешейке Журавьей, затих, но, наверное, на светофоре был зеленый, потому что он сразу начал взмывать вверх, как огромное крыло, над площадью Дефилад, пока не достиг Дворца и не разбился о его стены.
– На х… было все это отстраивать, если и так здесь негде спрятаться, – сказал Яцек.
– Что?
– Ну этот город. Здесь все смердит трупами.
– Трупы вроде повытаскивали.
– Вот именно. Подумай: сегодня в полдень, например, Страшный суд и Воскресение…
– Какой суд?
– Ну х… с ним, все равно его не будет. Одно Воскресение. Всеобщее. На Маршалковской лопается асфальт, и они вылезают; на Аллеях расползаются тротуары, и тоже они вылезают, отовсюду. Сидишь в «Макдональдсе» на Свентокшиской, давишься своим бигмаком, и тут здрасьте! Линолеум, бетон – все на кусочки, и вот жмурик, потом другой, везде, на развязке, в Пассаже, в Саксонском[38] трава расступается и они вылезают как грибы или как эти немецкие гномики из гипса – на площади Повстанцев, на площади Дефилад – и дефилируют себе: полиса у себя на улице Видок мучают какого-нибудь торчка, а тут – раз – еще один клиент из-под пола, даже лучше; потом Миров и Муранов, там просто землетрясение… О, тут не будет той благопристойности, как раньше, на кладбищах, в Вульке,[39] на Брудне, на Воле, где пусто, ни одного человека, да все ровными рядками, да сложив ручки, – так, как их клали… Тут будет по-другому.
– Переклинило тебя, Яцек.
– Нет. Просто думаю о том о сем. И об этом тоже. А ты нет?
– У меня не было времени. И с религией я не очень…
– Но «Триллер» Джексона ты видел?
– Ну видел.
– Так вот это то же самое, только среди родных осин. Покупаешь в киоске сигареты и улетаешь в дыру.
– Это меня как-то не колышет, – ответил Павел и потянулся за сигаретой.
– Концы концов уже никого не волнуют, – сказал Яцек с тихим смехом.
– Сегодня один ненормальный спрашивал меня на Центральном, верю ли я в сатану.
– И что ты ему сказал?
– А что я должен был сказать? Ничего.
Потом они заснули. Лежали навзничь с открытыми ртами, и обоим снилась их жизнь, но они ее не узнавали, и поэтому их тела спокойно отдыхали, не пытаясь защищаться. Свет переливался через подоконник и медленно растекался по полу. Как серая вода. Он поднимался все выше и выше, пока не затопил сначала их, потом стол, а потом дошел и до потолка.
Вскоре после этого Шейх встал с подстилки, вытянул передние лапы, прогнулся и зевнул. Поплелся на кухню, но в миске было пусто. Хозяин и Силь спали. От нечего делать Шейх решил попить. Сделал три глотка, шлепая языком по воде. Он чувствовал какое-то беспокойство. Черные когти цокали по темно-красной терракоте. Звук был тихий, сухой, но отчетливый. Пес вышел в коридор, обнюхал хозяйские ботинки и сразу вернулся обратно. Забрался передними лапами на подоконник и выглянул в окно. И увидел странную вещь: откуда-то из глубины Рембертова[40] или Веселой[41] поднимался огонь. Его еще не было видно, но небо уже пылало. В дымке над гребенкой леса на Ольштынке поднималось красное зарево. Похожее на темный огонь, который горит внутри Земли, огонь, никогда не видевший дневного света и от этого слепой. Чем выше, тем он становился бледнее, словно его подпитывали воздушные массы: оранжевый, над ним золотой, который тоже постепенно бледнел, делаясь все горячее, и переходя наконец в серебристо-белое свечение. Черный хвост дыма из трубы Кавечинской ТЭЦ растянулся по всему небу, но, достигнув зарева, сразу рвался, лопался, как от порыва ветра, но не рассеивался, а складывался в огромную фигуру. Она шевелилась, сгущалась, редела, просеивала свет, и казалось, что это живое существо – то ли человек, то ли животное, – которое пытается оторваться от земли, сделать шаг, потом другой, двинуться к реке и перепрыгнуть ее одним махом. Словно учится ходить. Шейх поднял морду и тихо заскулил. Понюхал воздух, клацнул зубами, снял лапы с подоконника и направился в глубь квартиры.
В депо на Ольштынке женщины прибирали красно-зеленый склад «Евро-Сити». Одна из них, пожилая, седая, с завязанным на шее платком, вышла на низкий перрон и быстро перекрестилась.
Они проснулись все же слишком поздно. Съели остатки холодного супа. Выкурили по сигарете. Молча. Яцек раздвинул шторы. Небо было голубое и чистое. Красная стрелка подъемного крана на противоположной стороне улицы была похожа на лапку огромного насекомого. Павел на кухне пил воду из белой кружки. Он надел ботинки и включил радио.
– Одиннадцатый час, – сказал Яцек; Павел выключил радио, и они вышли.
Яцек сказал, что ему надо на Прагу. Павел спросил, можно ли ему с ним. Тот неуверенно кивнул. Они перебежали дорогу, перескочили через ограждение, – как раз подошел второй. Яцек впрыгнул первым. Уселся и ни разу не обернулся. Павел пробил билет и занял свободное место через два кресла от него. Просторно, прозрачно, прохладно. Воздух в вагоне был светло-желтый. С пола поднималась пыль и висела в косых полосах света. Ночью он поспал, голода пока не ощущал, плечо болело меньше. Перебрал в памяти события вчерашнего дня. Все укладывалось в единое целое. Все события подходят одно к другому, когда они уже в прошлом. Страха он не чувствовал. По крайней мере не так явно. Его раздражали грязные носки. Стопы горели. Ближе к Свентокшиской в автобусе стало еще свободнее. На остановке никто не вошел. Павел заметил на полу бумажку. Поднял ее. Это был обычный листок бумаги в клеточку, сложенный вчетверо. Пустой. Ни единого слова. Положил его в карман, бросив взгляд по сторонам. Никто на него не смотрел. Три женщины уставились в окно.