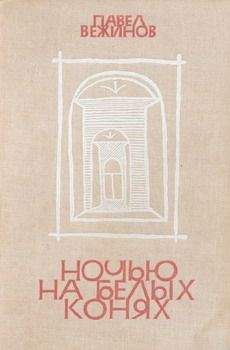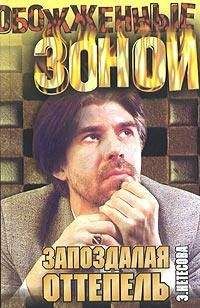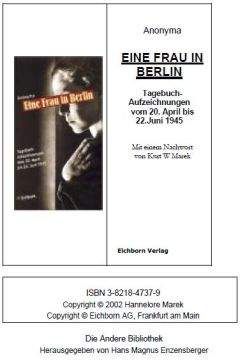— В буквальном.
— Интересно! И чем же ты это объясняешь?
— Думаю, у нее какой-то комплекс насчет мужчин, — ответила Донка и в темноте невидимо зевнула. — Отец у нее сбежал из дома, когда ей было всего два года. И с тех пор не подавал никаких признаков жизни.
Сашо помолчал.
— Сейчас это часто случается. Но обычно девушки реагируют как раз наоборот.
— Ты прав, но Криста слишком впечатлительна. И очень любит свою мать.
— Она по крайней мере не слышала, как ты встаешь?
— Чтоя, сумасшедшая? Я дождалась, пока она заснет.
Донка замолчала. Небо в квадрате окна заметно посветлело, уже не было видно ни одной звезды. Юноша чувствовал какие-то смутные угрызения совести — отчего? Ладно, завтра все пройдет и забудется. Не забудется только котенок со сломанной лапкой, его грустный и беспомощный взгляд… «Мяу!»
— Тебе надо идти, девочка, — сказал он. —Как бы Криста не проснулась.
— Хорошо, — сказала Донка. — Когда мы увидимся?
— Над этим вопросом стоит подумать.
Но она словно не обратила никакого внимания на его слова и не рассердилась.
— С этой дачей ты просто кум королю… Никаких проблем.
Утром, пока они садились в машину, девушки были молчаливы и поглядывали вокруг с ледяным безразличием. Один только Кишо сказал:
— Я голоден, как волк.
— Сейчас я отвезу вас в «Шумако», там готовят отличную похлебку из потрохов.
Весь двор был в росе, искрившейся на солнце. Небо сияло, как начищенное. Сашо давно уже заметил, что только тут, под косматым боком Витоши, у неба бывает такой красивый фарфоровый блеск.
Сашо проводил дядю на аэродром, сам донес ему вещи. Но в последний момент, перед тем как войти в зал ожидания международных линий, академик, непонятно почему, забыл оглянуться и попрощаться. Сашо так и остался стоять с открытым ртом, потом усмехнулся и направился к выходу. Ему бы остановиться и немного подождать, имей он хоть какое-нибудь представление о старческой памяти. Дядя заметил свою оплошность, лишь пройдя паспортный контроль. Он вернулся, заглянул за барьер — никого. Академику вдруг стало очень тяжело, и это чувство не оставляло его до самого самолета.
Наконец загудели двигатели, самолет стремительно промчался по взлетной полосе и скоро оторвался от земли. Видимо, академику еще не приходилось летать на таком мощном самолете, он просто физически ощущал, как машина хищно заглатывает пространство, оставаясь все такой же голодной и ненасытной. Тягостное чувство постепенно рассеялось. В конце концов племянник есть племянник, должен же он понимать своего дядю и прощать ему. Подошла стюардесса, вежливо протянула ему подносик с конфетами. Он даже не заметил, как клюнул одну — словно ребенок. Да, что бы человек ни делал, эти два возраста в самом деле до смешного похожи. Эта мысль снова опечалила его, он выплюнул конфетку и потихоньку сунул ее в пепельницу.
Когда он садился в самолет, низкое облачное небо как-то нехотя сочилось крупным серым дождем. А сейчас эту летучую металлическую коробку щедро заливало солнцем, тучи, похожие на бесконечную пустыню с меловыми барханами, остались далеко внизу. И небо здесь было другим — не таким плотным и гораздо более прозрачным, великая пустота чувствовалась за его синевой. Через некоторое время принесли обед — закуску и холодного цыпленка, который ему не понравился, но которого он все же аккуратно съел. Зато чай был очень хорош. Не успели убрать отвратительные пластмассовые подносы, как самолет пошел на снижение. «А когда-то гораздо больше времени уходило на поездку в Княжево»[3], — подумал он. Когда-то, то есть еще до того, как в Софии появились маленькие желтые трамвайчики, которые, бренча и подпрыгивая, бегали по стальным рельсам. Как во сне мелькнули перед ним соломенные канотье, жилеты из светлой, в клеточку, ткани, отец в своем неизменном черном пиджаке. Пролетку брали рано утром, и никто не мог сказать, когда она доберется до места. Лошади, украшенные монистом и красными кисточками, устало пофыркивали, цокали копыта, запах конского пота лился через высокие, обитые кожей козлы. Иногда им встречалась другая пролетка, приветственно щелкали кнуты. Перед глазами медленно вырастали горы. Напротив него сидела девочка в голубом платьице и белых чулочках, просто сидела и смотрела на него, а он таял и изнывал от любви. Какая любовь, что за глупости? Впрочем, какой смысл обманывать самого себя?
Конечно, любовь, хотя девочка не сводила глаз не с него, а с его матросской шапочки с длинными лентами и надписью «Дерзкий». Но дерзкими были только его мечты, все прочее было лишь запах конского пота, щелканье кнутов да унылые покрикиванья извозчиков. Но не стоит думать об этом, что за старческая привычка вечно рыться в далеком прошлом, словно внутри рухнула какая-то стена и теперь воспоминания беспрепятственно разгуливают, где хотят, как чужие люди в брошенном доме.
Вскоре самолет, толкаемый раскаленными соплами, врезался в густую массу облаков. По металлическому корпусу пробежало острое содрогание, и Урумов вдруг увидел мокрую землю и черные блестящие артерии шоссейных дорог. Прилетели. Академик с облегчением почувствовал, как выпустили шасси, самолет заскользил по посадочной полосе, шум стих.
Здесь тоже из рваных туч сыпался мелкий дождик, но академик даже не надел шляпы — капли так приятно ласкали лицо. В зале ожидания пассажиры нетерпеливо толпились у окошечка паспортного контроля. И тут он заметил прекрасные пламенные глаза, в упор устремленные на него. В них было немного любопытства, чуть больше почтительности и столько огня и жизни, что это почти потрясло его. Молодая женщина подошла к нему такой же живой походкой. На вид ей было лет сорок, жаркая южная красота делала ее похожей и на Маху и на Олимпию, только более зрелую и полную. Подойдя к академику, она улыбнулась и заговорила на чистом болгарском языке с еле приметным акцентом:
— Простите, вы профессор Урумов?
— Да, я.
Она тут же протянула ему горячую и сильную, но все же нежную женскую руку.
— А я — ваша переводчица… Зовут меня Ирена Сюч.
Да, в самом деле, акцент был еле заметен.
— И кто же вы по национальности? — спросил он. — Болгарка или венгерка?
— И то и другое… Отец у меня — чистокровный болгарин из Бела-Черквы, но все говорят, что я похожа на бабушку… А мать у меня венгерка, и родилась я здесь.
— Ну что ж, пойдем, — покорно сказал академик.
— Там вас ждет профессор Добози… Предупреждаю, чтобы вы случайно не разминулись! — она засмеялась. — Он распорядился, чтобы я была к вам особенно внимательна. Я всегда внимательна к нашим гостям, но к вам и в самом деле буду очень, очень…
Академик Добози ждал его в другом зале, окруженный целой свитой. Он напоминал толстого розового попугая с плоскими голубыми глазками, похожими на раскрашенные пуговицы. Добози сердечно обнял Урумова и поцеловал его прямо в нос. Затем он представил своих сотрудников, похлопывая при этом каждого букетом желтых тюльпанов, пока не сообразил сунуть его гостю.
— Это же вам! — виновато проговорил он. — Извините, я, кажется, их немного повредил.
— Неважно, есть их я не буду, — еле заметно усмехнулся Урумов.
Ирена тоже сдержанно улыбнулась, но не перевела, — шутка и в самом деле была несколько плоской.
— Ну что же, поедем! — оживленно сказал Добози. — Кроме работы, нас ждет еще неплохой обед.
— Да я же только что пообедал.
— Мы это предвидели и не будем вас очень мучить, — засмеялся Добози.
Они уселись в ожидавшую перед аэропортом скромную старой модели «Волгу», остальные взяли такси. Переводчица села рядом с шофером, и оба тут же завели бесконечный оживленный и доверительный разговор, который, казалось, только на минутку прервали. Правда, большой нужды в ней Урумов не испытывал — Добози превосходно говорил по-немецки и довольно хорошо по-английски.
— Меня предупредили, чтоб я не эксплуатировал вас слишком жестоко, — сказал он. — Но несколько дней я у вас все-таки украду.
— Я в вашем распоряжении. Для того и приехал, — ответил Урумов.
— Очень любезно с вашей стороны. И все же мы постараемся не слишком вам докучать. Давайте договоримся так — вы проведете одну-две беседы с моими сотрудниками на темы, которые сами выберете… Кроме того, мы покажем вам институт — все, что у нас есть.
— Я слышал, что у вас много нового, — сказал Урумов.
Добози вспыхнул от удовольствия. По его словам выходило, что таких электронных Микроскопов, как у него в институте, в Европе всего несколько штук. И стоит этот их микроскоп, можно сказать, почти столько же, сколько весь институт. От возбуждения у Добози пылал уже не только нос, но и голое темя, он запинался даже на самых простых словах. Волнение, охватившее Добози, передалось и Урумову, оба даже не заметили, что машина уже едет по оживленным городским улицам. Наконец Добози умолк, несколько пристыженный своей болтливостью, но все же довольный и гордый. Шофер ловко крутил баранку, нажимал на тормоза, но продолжал внимательно слушать свою собеседницу. Академик встревожился. Если эта правнучка Бачо Киро[4] так же болтлива, как и Добози, то его действительно ожидают нелегкие дни. По-видимому, переводчица тоже почувствовала, что хватила через край, потому что она обернулась и сказала, улыбаясь: