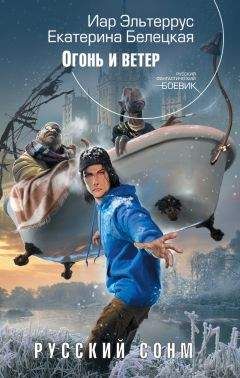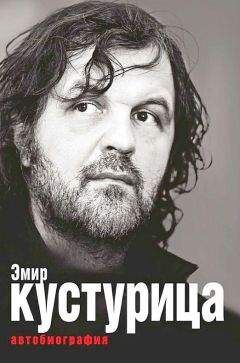Мулатка исторгла из ласточкиного гнезда на чемодане бокастую бутылочку, взболтала её содержимое, скорчила отроковицкую гримаску, отчего губы её на миг воспроизвели схему трёхдольников (верхняя — анапеста, нижняя — дактиля), разгладились, приложившись к молоку, упустили нескончаемую, как слеза инспирации, каплю, которая бы и взорвалась на зелёном ногте, не отдёрни мулатка ножки! Снова круговое движение кисти. Млековорот. Оттопыривание к потолку длиннющей фаланги («танцевальной», отрекомендовал бы её Страдиварий) мизинца с обнажением алебастровой подмышки без малейшего намёка на шерсть, — словно перед Алексеем Петровичем возвышалась не девушка, а забуревшая от сафари Артемида.
Я бы… — ещё шаг. За кордоном стряпали на полу новый коктейль по анатолийскому рецепту: с делибашевым визгливым отчаянием замешивалось полдюжины пограничников, пара полицейских в безрукавках, отягощённых бляхами репинских богомольцев, полтонны требухи баулов, окровавленной вспоротыми бурдюками, пропитавшими всю границу запахом болгарского перца (вот она, вендетта порабощённых! Принюхайся к ней!), — а турчанка, с outre под мышкой и сломанными в пылу битвы каблуками, схватившись за ухо сынишки, и подчас заходясь в нимфолепсии, вымаливала пощады кулинарам у мясистопалого офицера с её паспортом и флегматичным «Но, мэм Амин-Оглу-у-у», настырнее, нежели удалая уайльдова падчерица — голову равелиннового рава. А малыш с сиреневой мочкой подпевал ей исправно, беря парой нот выше.
Шаг. Новое движение запястья, наваристой кисельной синевы, где каждая прозеленная веночка ветвилась тонко и надёжно, — выписанная руслами нильской дельты с изумительным по изяществу, но всё-таки излишним притоком в сторону пульсирующей синайской припухлости. «Я бы тоже пригубил пьемонтского молочка — исхудалый россиянин с греческими корнями. Как же ещё мне выразить извечный извет, ксенофобию французов, не способных к пересечению установившихся рубежей, вынужденных, не покидая исконного русла, перебродить своей вакхичностью, подмеченной ещё гоголевским князем — ясным солнышком — митраическим Principio, — так и не отведавшим нутра северной красоты. Ведь до изобретения уравнительного докторского ножа Франция располагала всем для катарсиса — целенаправленного выплёскивания древнего адского ужаса, зачатого в кельтских лесах, по коим она так и не извыла бы своего уныния, не разродись она, хохотунья, напоследок бронзоватым Прустом с замогильным Шатобрианом, коему не прощу я его бретоноцентризма — карьеристского предательства шуанствования полуденных провинций! Были у Франции и царь — луврский слепок Господа; и знать, ведающая толк в ратной гибели (единственном избавлении от мужеской исконной тоски) да в кондотьерстве чужеземцами; и иноплемённая, распознаваемая по круглым черепам раса илотов, сдерживаемая тисками прелести еженедельной григорианской Пасхи — пульмотерапией песнопения с инъекцией багрового постисповедального стыда. Ныне же установленная кельтами иерархия вкупе с издавна непроницаемыми перегородками — снесены. Воскресное насилие красоты упразднено. И вот уже выводок мнительных рабов, заарканенных «свободой» (ну и словечко! зачумлённый анапест! периклова смерть!), разъедает Францию, так и не нашедшую убежища ни в Африке, ни в Палестине, ни в Смоленщине, — а ведь так хотелось сохранить ей свою первозданную частицу, жмущуюся сейчас к моей попке…» Ещё шаг. Теперь мулатка, опасно накренившись, балансировала на каблуке, изумлённым изумрудным взором изучая Алексея Петровича, — ставшего к ней бочком, однако под углом, позволяющим видеть всё — всё, что стоит видеть, но не нахрапистым глазом, а кусочками, словно скалолаз, отвоёвывая да навсегда закрепляясь в отбитой у планетного притяжения территории, увековечивает её своим присутствием, точно некое божество — отпечатком своей, как у конного Людовика (ликом схожего с апеннинскими Мариями), плесницы, бок о бок с посмертной маской многорёберной геракловой стопы где-нибудь на крайнем Западе… «…Западе дичайшем, как Apec — добрейший daddy Ада и чудес провозгласитель тьмою глоток, десятитысячным набором идиом, отпавших вдруг от райской цитадели, что носит имя «Одинокой цыпки», финикияночки по мужу тоже да бабки Ди…» Снова рассыпалось. Взор мулатки скользнул по нагруднику Алексея Петровича: «Ириаа», — проворковали васильковые губы мулатки и опять улыбнулись, будто кошачий рот её существовал вне тела, «Вне телл … а-а? Ага! Паря, подобно Богу над благоговейной оркестрой…» Она, видно, тоже схватывала кусками, подобно бальзаковской кинокамере да смаковала, расчленяя по нёбу вкусовую палитру мира, — признак редчайших оральных способностей. «Ирииааа», — ещё одно аршинное продвижение к границе, визг чемоданных колесиков, глоток молока. Повели под автоматными дулами турок, жмурящихся, точно от солнца. За ними, соблюдая привычную дистанцию, следовали их жёны, босиком, — оставляя прямоугольные винные следы, молниеносно подбиравшие свои щупальца, — на ходу силясь приставить каблуки и охая от нехватки бледнолицей сапожницкой смекалки. Капитан Миронов видя, что угодил в поле зрения пограничника, пригрозил пленённым пальцем, подобострастно ощерившись и расправив плечи, будто его произвели в заокеанские майоры, потащил в чёрном месиве ногтей свой балтийский документик, ляжкой прикрывая саквояж с наклейками Штуттгарта, Лидо и эстонского флага, из коего выжило лишь две трети, — причём какой-то сорвиголова подмалевал фломастером на белой полосе звезду Давида уже с голубым разводом от каждого конца, что делало из неё комету, тотчас хохотнувшую, лаская Алексея Петровича кубертеновым взором, словно науськивая его поучаствовать в веселье. Сейчас Алексей Петрович разглядел в ней нечто скульпторское — размах плеч, мощь мышц кисти, — такое подчас создаёт смешанная природа, словно исконная скифская магма России, изначально не предназначенная творению, но рождённая ради реактивной вспышки средь морозов, вдруг, при контакте с Италией, расцветает поэтической грацией… «…как некогда нордические Фивы, лишаемые косм космосом на логейоне, возрождались в ненароком роком оримляненной России, порабощая её для протаривания сквозь неё нового великого тракта из Греции в Индию, которая по сей день переплетает, запамятовавши их применение, свои замысловатые фасции, не зная, что с ними поделать — то ли обмотать Торой, то ли отослать на знамени Магомета через Уфенау в Боллинген — не к здешнему Онегинскому издателю, а в Санкт-Галлен, — то ли эгоистично попридержать да умножить, заказавши республиканцам Лютеции сколоть их с дантоновского пьедестала…».
Мулатка поднялась с чемодана, повернулась на шпильках — точно сковыркнутая рифейским ли, энгадинским ли хребтом Европа, — дёрнула чемодан за рукоятку, снова извлекши его широкую плодоножку, и двинулась к границе, причём каждая ягодица её, вырисовываясь из-под «Lempicka», свершала, танцуя, свой ладный полукруг, в то время как на уже записной американской территории пятеро негров (все оливкового оттенка федеральных вышибал), ни на йоту не уклоняясь от ритма средиземноморской чечётки, скручивали вяло бившегося капитана Миронова, сеявшего абрикосовые, с червонными проплешинами (будто комья конских экскрементов) свёртки. Вопли его, набухающие крещендо и уходившие в бесконечность малороссийского «о»: «О-о-о-ох ты! Мент! О-о-он и хвалится ещё, что-о-о-он! Мент!.. Неварёный кисель тво-о-о-ему батьке к гло-о-о-о-отку!», — смешивались с понуканиями чикагского сленга, удачно попадали в такт каблучной пляски — словно сарды, напавшие на Сарданапала (того, чернобородого, с парой «лямбд», так-то, collabo Аристотель!), но внезапно сплетённые под тимпановы взрывы вьюном, сами распустившиеся клевером, ставшие хвойными посохами да возжаждавшие броситься ниц, октябрьской луганской Belle Dame, — только не способные уже изменить сосновой своей осанке, вторично кощунствуя поневоле — «А вот я распластался бы перед ними, виясь в пыли обесчлененной мудростью, чохом в ноздри вам её с пылью набивая, да… а-а-а-а-а-пчхы-ы! На здоровье!»
Слёзы наконец-то брызнули. Прорвало. Мулатка, неравно поделивши улыбку меж объективом фотоаппарата и Алексеем Петровичем, отхлебнула уж вовсе запретного молока да, чистосердечно преступивши имперский закон, углубилась в Америку. Рукав её взмахнул. Алексей Петрович, утирая слёзы, скрипя пуговицей в щетине, пошёл к границе, ставши в Хейко-даши на белую линию, подмечая всё-таки краем заплаканного глаза, как остановленная запыхавшимися таможенниками, не перестававшими вычеканивать ею выбитый такт, выговаривала, — пощёлкав языком и покрутив пальцем, — с дивным альбанским произношением: «Нет. Не имею. Не ввожу. Не скрываю. Не принадлежу,» — тем же, сводящим с остатков ума Алексея Петровича, плавным движением воспроизводила плотный молочный Мальстрём, скалилась на клювастого кочета с плоским, после давней лоботомии, черепом. Мир скукожился до размеров тополиного листа, зашуршал, вертясь на тёплом ветру. Алексей Петрович, истомлённый недавней инспирацией, вдыхал его легко, разлагая на свой привычный манер: отсекал мундир от его начинки, подчинялся жестам васильковой ткани, прикасаясь к сканеру сперва подушечкой правого, затем левого перста, — сознавая, что сбирает кожей пыльцу ворсистых разводов отпечатков пальцев мулатки, отчего ледяные, подслащённые да подкисленные жгуты ещё туже скручивались в его паху. Так случается, когда силишься впитать левобережный французский текст, с греческим одесную, en regard (но не будучи в силах пронзить пелену неверия), вдруг взор переманивается вражеской стороной, постепенно примеряется к ней, дабы сигануть в самую инородную буквенную бестолочь, сгинуть там, захлебнувшись, предвосхищая хитросплетения вездесущих объятий спасительницы вкруг живота своего — шум волн, полёт пены, крепко прилипший к пяте блеклый побег омелы, — и тут, вместе со слёзным каскадом прорывается истинный тембр стасима, басовый, с хрипотцой, перекрывающий грохот соседских кулаков в хрупкие парижские перегородки, скандирующий всю адамову страсть пасть ниц, разметать руки, теперь ставшие бесчисленней щупалец бездненного чудища, прильнуть промороженной промежностью к земле (скрючившись на мгновение влево — точно получил коленом под ребро! — дабы спасти хохлатку фалеру), воспроизводя параллельно бушующей Вселенной (зане Земля не кругла! Она лишь томно возлежит, обдуривая подчас человеком андрогиновой своей мимикрией!) полуденный нагорный пролог.
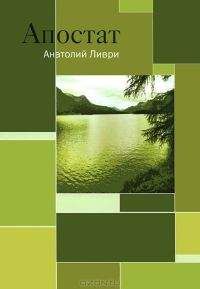
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)