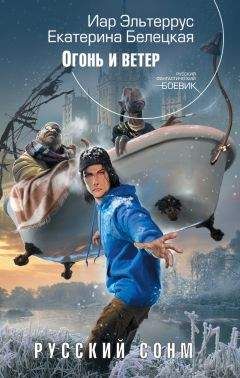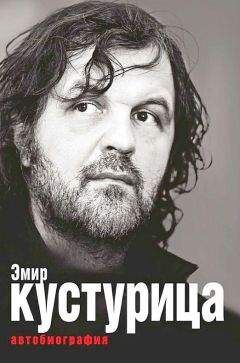Алексей Петрович повернулся к фотообъективу пограничного ведомства, тотчас запечатлевшему впалость щёк, хвойную голубизну щетины, экспрессионистскую зелень преступной капли, сразу начавшей плутать меж скульных волосиков, оставляя всё же средь них ледяную тропу, — ай-да-Да-Винчиева борода ожидалась у Алексея Петровича! Хоть маскируйся ею да отправляйся из бычачьего Амбуаза, чрез плантацию Плантагенетов орошаемую Эндром (его должно писать лишь по-аборигенски!), чрез претенциозно-прейскурантный Athée-sur-Cher, до самого шуанского устья Луары, — миллилитр за миллилитром емля, как зевесову росу, по пышным змеиным лесам заговорщиков вплоть до капеллы Сен-Флорена! Слеза упала па имперскую межу.
Алексей Петрович принял овально проштампованный паспорт, пока мундир, с переменным успехом одолевая свою женскую начинку, пророчил ему счастливого пребывания на континенте, где его поджидал растерявший ретивость в недавней схватке таможенник. И Алексей Петрович припустился внутрь Америки, вослед мулатке, ища её, раздувая ноздри для предоставления наибольшей воли тамошней растительности, и одновременно направляя наикристальнейший взор в чиновничье рыло (упорная челюсть в оспинках, заливающих всё, вплоть до кельтских скул, по-моряцки прогнутые ноги — джеклондонов персонаж в негритянском, правда, обличье): «Нет. Ни копейки. Ни гроша. Не пью». «Это?.. книга! По какому?» «На э-э-э-этэтэт, на русском. Да. Изучаю».
Тяжёлая лапа функционера, непривычная к переплётным листам, приняла Гомера, смачно зашелестела, порезавшись, надорвала (этого-то и боялся Алексей Петрович!) край шестнадцатой песни, извлекши из самой сердцевины двенадцатой четвертинку бумаги, и, примеривши к кувшинной серёдке лица так и эдак каракули Алексея Петровича, — будто лидер богоборческой державы, официально зазванный в Перворимье, угловато-девственно прикладывается к святым мощам. Тут ресница Алексея Петровича выпала, завертелась, и он, подхватив её, недостигшую пола, щепотью, спрятал в карман. Резкое движение Алексея Петровича осталось незамечено рубежным стражем, задумчиво отдавшим Илиаду, облизнувши при этом искровавленный тыл ладони, и переспросил: «Фуд?»
Подобно всем галлизированным русакам, Алексей Петрович съезжал (как во тьму по оледенелой горке) с «д» на «т», а потому десяток мячей-близняшек запрыгало вокруг. Он выбрал единственный, позлащённый, тщательно запрятал в свой желудок, пришедшийся впору кожаному шару, молниеносно заурчавшему, точно насыщенная душа, обозначающая начало новой эры. — А-а-ан! Нет! Не ввожу! (уснащая ложь вельможным произношением из самого базиса сломанного носа), — сердцевиной позвоночника ощущая покатое бутылье плечо, и, содрогаясь наказания, следя и за ровной рысцой (по коридору для автохтонов) франтоватого, неудачно покусившегося на моду Чингиз-хана, и за визжащим вровень с ним железным ящиком со впряжённой в него тройкой китайцев, — где коренным оказался недавний сосед Алексея Петровича (вот, раздавил, не заметив его, ландыш — первая жертва Сиятельному Беле!); правый пристяжной в светло-коричневом костюме с поясом потемнее, а левый, высунувши чёрный язык, косил ящурным глазом в направлении хозяина, на ходу подвергавшего мандарин сдиранию кожи и четвертованию оголённых частей, причём, невзирая на рысцу (даже как-то противясь ей!), шкурка с бежевым исподом тяжко ниспадала спиралью, одухотворяя путь ускользнувшего уголовной ответственности Алексея Петровича, уже вздымающего алебастрову пыль в сторону, где, судя по слышавшемуся ему запаху, стоял отец.
Вверх, вверх, ещё выше, угодивши в стадце стюардов, всех с юркими тёмно-синими чемоданчиками-двудневками: пара нижнего белья; вихрастая зубная щётка, делящая саркофаг с ржавоногими щипчиками; морщинистая, не поддающаяся утюжному лифтингу рубаха, которая вздёргивается в зазеркалье гостиничного шкафа, точно зарампеченный фюрером Роммель — вот содержание такого саквояжа. А стюарды продолжали свой сбивчивый раскачивающийся бег, сохраняя в глазах пенку ужаса (липнувшую к переносицам), и лишь Person, молниеносно распознавши Алексея Петровича, ослепил его, — ухая кладью по ступеням и откалывая тавро от сосца, — своим безмятежным оскалом. Ещё выше! «Ах! Что за лестница, как бы не поскользнуться», — и Алексей Петрович тотчас споткнулся, схватившись за балясину старых перил (мизинцем нащупавши глубокое клеймо Made in West Germany) — шатких, блестящекаёмных от миллионов небрезгливых к алюминию ладоней. А за его спиной приграничный мирок распадался на куски, предпочтительнее грубыми шматами, презирая опыт гармоничного помпеянского крушения: дыбился сливовым торцом псевдокаррарский мрамор, прахом обрушивались хоругвенные полосы, позванивали мелочишкой их звёзды меж таможенных будок, из которых негры аллебардами гнали к самолётной гавани Фрейда (с давненько неподровненной бородкой Луи Бонапарта), гаерским жестом агитатора подкидывающего листовки, нарезанные долларами, осыпая ими преследователей, с шипом — сссаффга-а-а-а! — всасываемых в землю, постепенно — по щиколотку, по голень, по бёдра, — да славящих чикагскую трясину зыбким оленьим рюханьем, напирающим на пронзительное «у-у-ут»; внезапное же умирание рубежа, взрывчатость его ликования (предсмертного, но не менее от того победоносного) с мгновенным истлеванием, оставались чётко (с некоей надчеловеческой лютостью), размеренны цоканьем каблучков мулатки, — будто запертая в соломоновых копях, капала и капала, примирившись в перстами гранита, вода.
Алексей Петрович точно определял местонахождение отца, чуял фамильное, излучаемое всеми его предками, вакуумное кольцо — «вакхическую мёртвую зону», — чью центробежную мощь он годами исхитрялся одолевать, — дар, выпестованный Алексеем Петровичем да развитый им с удесятерённой силой: тёмный фетидовидный шмат души округлой формы персеева лезвия, — принимаемой ею и в часы сиесты, и во мгновения самого разъярённого вдохновения. Шар грозно наливался мраком, зловеще огрызался утробной пальпитацией, постепенно доводимой до неистовства, которое у человека разумного (сиречь неспособного к властвованию над диаметром и степенью прозрачности кольца) неминуемо завершается убийством себе подобного — единственным актом, позволяющим ему продолжение своего сапиенсового существования. Алексей же Петрович почти ежеутренне отнимал от скованных скрепкой страниц, — обагрённые по локоть слезами руки с голубыми, индиговыми, салатовыми, радужными запястьями (там, где обычно налагается стальной зажим наручников!), покамест его кольцо утихомиривалось, утрачивало свой роскошный кровоток, прояснялось даже, обнаруживая медузовые жилочки забитого до смерти Невидимки, а на бумаге, уже абсолютно независимо от вялого, дрожащего, хладнопалого Алексея Петровича, начиналось, — каменея и теряя волосы, — идеально обновлённое существование.
Отец Алексея Петровича дара своего не развил, а потому был учуян сыном, сам оставшись нечувствителен к сыновьей ауре, кою тот подобрал, как рясу, приближаясь к Петру Алексеевичу, его не видя (незачем!), хищницки плавно забирая по часовой стрелке от воображаемого отцова кольца — того, которое раскинул бы он сам, поджидая своего грядущего отпрыска, тотчас наделяемого им собственными способностями. Однако, будучи не в силах противиться рефлексу, Алексей Петрович, уклонялся влево, скрываясь за гулкой от ударов младенческих кулачков колонной, несущей щит, представляющий (брось, брось его, Архилох!) яства — с нескрываемой целью довести до самоубийства Шардена, — и ещё левее, в сторону индийцев (тотчас распознавая их касту, потому и позволивши себе приближение): у одной, в сари колорита добротной ржавчины (пестуемой только приозёрными изгородями Цюриха, тянущимися от Бетховенской, вдоль Mythenquai — лишь на них налипла ещё пыльца срединной, кафкианской, нынче замученной коллапсом Европы, — до самого Оргена — столицу гордую спокойных лебедей, в полдень кобальтово-кисельную, с пальмами — скованными цепью, чтоб не улепетнули на родину, — под Рождество Христово заваливаемые по шиколотку валежником: итало-финское садовничество!), над пушистой бровью нависла родинка, выпуклая, муаровая, с впадинкой, точно подвергнувшаяся резке, и уже ожидавшая алмаза; она всё тормошила мужа за предплечье: белохлопковая длинная рубашка навыпуск, огненно-алый тюрбан, оливковый взор, коим он с ленцою шастал вдоль электронной доски «Прилёты», соскальзывая на женину родинку, Алексея Петровича, а уж затем только (не вспыхивая, следовательно, сходства не замечая) на Петра Алексеевича — серые брюки, фуфайка, постыдно выдающая жировые отложения, голубенькая, одного тона со спортивными носками, которые, выдавая секрет совместной с ней стирки, тосковали за решёткой мясистых сандалий.
Алексей Петрович провёл, скрипнувши ногтями, по щеке, проследил, как японец в зелёном тренировочном костюме, сидя в джипе с типично американским надбамперным оскалом, водружал на блеклую морщинистую дочернюю культю протез приблизительно «телесного цвета» его, Алексея Петровича, расы. Исполинские, преисполненные мороки глаза ребёнка мерцали стальными звёздами, и Алексей Петрович, затаиваясь, — будто усаживая душу с сетью в засаду, — поджидал падения одной из них, готовя заветное желание: так в трёхчасовой тьме егерь взвешивает, молниеносно находя её середину, стрелу, тотчас вспоминая туши, рассечённые для её вызволения. А в стеклянную перегородку билась зябким колхидским прибоем половина четвёртого — конец волчьей поры! — и не прерывая своего вращения вкруг Петра Алексеевича, он вытянул часы, отколупнул ногтем колёсико, отступил на четверть суток, прищёлкнул, выпустивши его на волю, время, оставившее ладное углубление в подушечке большого пальца. И по мере того, как он отвоёвывал пространство у минувшей ночи, стайка бритоголовых солдат, облачённых в пижамы цвета обесчешуенного клёна, пересекала зал парами: почти по-фивански, не будь в хвосте вереницы девицы, такой же остроносой, как прочие вояки, прыщавой, согбенной рюкзаком — продолжением горба — и в лопатящейся шинели. Индийцы сторонились гарнизы, поддерживали обеими ладонями расплетающиеся чалмы урывчатыми жестами, коими големы астериоратоборственных кинолент сменяют свои головы; однако, не освободи индийцы дороги, безоружные новобранцы прошли бы сквозь них столь же просто, как и сам Алексей Петрович, выучившийся попеременно вклиниваться в персонажей гоголевского эпоса, — распределяя их по исконным местам, изымая у Плюшкина пилосский венец, Манилова производя в предводители манов, Собакевича — в одну из трёх Церберовых глав, самую ненасытную да говорливую из них, последнюю из извлечённых Гераклом на свет: в Америке Алексея Петровича постепенно проступали подлинные очертания былинной целины, — пушистой бразды, ещё не возделанной пером. А подчас Алексей Петрович, упрямо продолжая, чуть извиваясь, пританцовывать по часовой стрелке (с вечно съезжающей заплечной сумкой, плясавшей своё, за что и бывшей беспрестанно понукаемой локтем) прятал пальцы десницы в карман: нет, мол, не изволю оплодотворять вас стихотворчеством, наоборот, сам я нуждаюсь и в лозовом гейдельбергском бризе континентального экилибра, и в тартаровой, лёгким, почти кисельным кругом разлитой влаге, стремительно опресняющей Атлантику, одним словом — Нет! И снова ныло бедро, будто презрев гиппократический гипотетизм, рана своевольно высвобождалась ото швов; и снова напирали рекруты; каждая последующая пара размазывала подошвами (с дромадерово копыто) плевок, а «Jepp», оскалившись в последний раз, развернулся и укатил, — причём наружу свесилась полусогнутая, длиннопалая, точно Школы Фонтенбло, длань, да откинутая ветром лощёная прядь показала остроугольное ушко калеки: я всегда утверждал японское происхождение Ариадны, запросто первенствуя непорочностью слуха души над тугоумными генетиками.
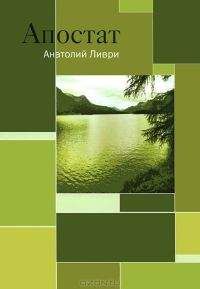
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)