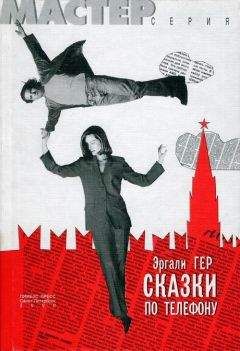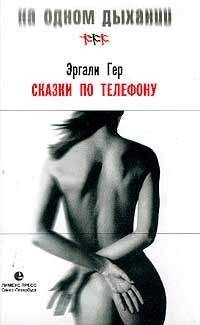Бабушка потопталась, словно еще хотела что-то сказать, потопталась и вышла. А он остался лежать.
Он лежал в темной комнате под пледом, истерзанный, совсем один. В огромной заледенелой стране без предела, в огромном запущенном фабричном городе, в маленькой темной комнате, загроможденной мебелью, больной звереныш. Человек без мамы. Засыпая под деловитую, слаженную суету приборки — за дверью подметали, выносили на кухню и мыли посуду, складывали столы — он думал о том, что если лишение себя жизни считается великим грехом, то и нелюбовь к себе тоже, по логике, неугодна Богу. По логике. «Это можно сформулировать математически», — думал он, и не слышал, почти не слышал, не пожелал услышать, как тихо, на цыпочках, вошел Сапрыкин, шепотом спросил:
— Колян, я возьму бутылочку на похмел, хоре? — и, не дождавшись ответа, прошел к балкону, потом бесшумно вышел.
И еще кто-то заглядывал попрощаться. Он спал.
Слышно было, как все переместились в прихожую, долго топтались там, по одному выходили, а он лежал и готовился к одиночеству, к окончательному одиночеству в пустой квартире. «Они все уйдут», — думал он, не веря, но вот дверь хлопнула, захлопнулась, он остался один, нет, кто-то еще остался — осталась? — выключила свет в прихожей, пошла по комнатам, выключая повсюду свет, в полной темноте вошла, пошатываясь, села в кресло подле дивана и замерла.
Наталья осталась.
«Наташка, — подумал он. — Осталась». Он так и знал. Так должно было быть, хотя по грачанским меркам оно, конечно, скандал. Ему полегчало, ледяная страна за окнами отступила, отлетела с балкона в свои заснеженные беспределы. Он стянул с головы плед, взглянул в ее сторону и увидел пыхающий огонек: Наталья курила.
— Не спишь? — спросила она неожиданно сиплым голосом.
— Не знаю. Вроде нет. Спасибо, что осталась.
Она хмыкнула.
— Пожалуйста. Спи давай. Я ненадолго, подежурю, так сказать, потом поеду. Так что давай, спи.
— Ладно, — согласился он, отвернулся к стенке, закрыл глаза. Голос у нее был здорово поддатый, слова спотыкались. Он лежал и слушал, как Наталья затягивается, как выдыхает дым.
— А почему не постелил? — определила она на ощупь. — Почему в одежке?
— Да ну, — буркнул Николай, но она заставила его встать, постелила постель, ему ничего не оставалось, как раздеться и нырнуть под мамино одеяло. Всей кожей ощущалось, какое оно мамино, одеяло, какое несвежее и родное. «Бог мой, — подумал он с тоской ни о чем. — Бог мой», — подумал он, пытаясь уплыть в привычную свою тоску, в усталость, но что-то крепко держало его на привязи, — Наталья, конечно, и никуда он не уплывал, только привязь натягивалась и вибрировала, а потом — потом он услышал всхлипы. Наталья плакала.
— Эй, — позвал он. — Наташка. Ты чего?
Она не отвечала, всхлипывала, а он лежал на боку, не имея сил на сочувствие.
— Ну что ты молчишь? — попрекнула она. — Что ты лежишь и молчишь?
— А что говорить?..
— Ничего… Хоть что-нибудь. Не плачь, скажи.
— Не плачь.
— «Иди ко мне, ляг рядом». Даже этого не можешь сказать, да?
— Могу.
— А фиг тебе… Тебе же никто не нужен, у тебя горе, ты у нас самый главный. Нашел свое горе и теперь будешь с ним возюкаться. А Наташка что, Наташка сама придет, не может же она бросить Коленьку одного в этой квартире… Ой, ну и назюзюкалась я…
— Я проклятый, Наташка, — сказал он.
— Ты не проклятый, ты бревно, бревно бесчувственное, вот ты кто, Калмыков. — Она встала с кресла, сделала два неверных шага и плюхнулась на диван, на него, припала поверх одеяла к его груди и забормотала: — Ты бы видел себя сегодня со стороны — аж черный, белый как смерть и черный, больно смотреть… Обними меня, а то я куда-то падаю. Такой, как на черно-белой фотографии, слишком контрастной: много черного, много белого…
— Потому и бревно, — пробормотал он, выпрастывая руки из-под одеяла. — Потому что проклятый.
— Крепче. Вот так. И забудь это слово, как дурной сон. Будет теперь носиться с ним и все оправдывать этим словом. Боже, как я тебя знаю, как я всего тебя знаю и как жалею, что связалась с тобой, выбрала себе на голову, ждала, как дура, два года… Только не говори про проклятье, ты просто не любил меня, вот и все проклятье твое, твоя проклятость хренова… Боже, это же надо было так назюзюкаться… Спи, не обращай внимания, это я так, для себя, ты спи, завтра будет полегче, гладь меня, вот так, и засыпай, а я буду рядом. Ты молодцом эти дни держался, я даже не ожидала. Спи, отдыхай. Надо было выпить водки стакана два и заснуть, а то ты совсем не пьяный, не то, что я, деревянный какой-то… И забудь это слово, как дурной сон, не зацикливайся на нем…
Она обнимала его за шею и бормотала, бормотала, утягивая на дно, захлестывая пьяным, жарким потоком слов, а он, лежа на спине, глядел в потолок и гладил волосы, мокрые щеки, ладонями утирал слезы и даже сквозь одеяло чувствовал тяжесть, спелость, жар ее тела. Гладил, отказываясь верить тому, что будет, что уже решено, даже успел подумать, что это бред, не может быть, сумасшествие, в такой день, но это уже пришло, уже зацепило и намотало на большие огненные колеса. Мягкие губы Натальи открылись его губам, одеяло сползло, затрещало платье или что там еще, пальцы нащупали дыру на колготках в том самом месте, где колготки рвутся чаще всего, и Наталья сама заторопилась их снять, они уже были одно, он и она, Наталья, живая плоть, одна живая, обжигающая жаром, одуряющая терпкими запахами жизни плоть. Пло-о-ть-ь-ь…
— Наташка… — выдохнул он оттаявшим, задыхающимся шепотом, чувствуя, как заработало, как погнало толчками застоявшуюся кровь сердце. — Наташка, Наташенька…
Он шипел букву «ш» в ее имени, как паровоз под парами.
12
— Спи, — сказала она. — Хочу, чтобы ты уснул. Вот так, на мне.
— Не хочу спать. Ты уйдешь, я знаю.
— Если не будешь спать, уйду прямо сейчас.
— Ладно, попробуем.
Он ткнулся носом ей в шею, закрыл глаза. Наталья ерошила его волосы, гладила по спине и думала о чем-то своем, о чем-то далеком. Как хорошо, подумал он. Как спокойно. Только что она была твоей женщиной, и вот уже ты ее ребенок. Привет от мамы.
— Лежи спокойно, — сказала она. — Я не хочу больше. Если будешь дергаться, я уйду. Спи.
Он сдался, смирился, стал засыпать. Она отмолит меня, подумал он, задремывая. Как хорошо. Как спокойно. Не плачь обо мне, родная. Видишь, как оно все без тебя. Не сердись. Все будет, как будет…
Утром, когда он проснулся, Натальи не было.
1989